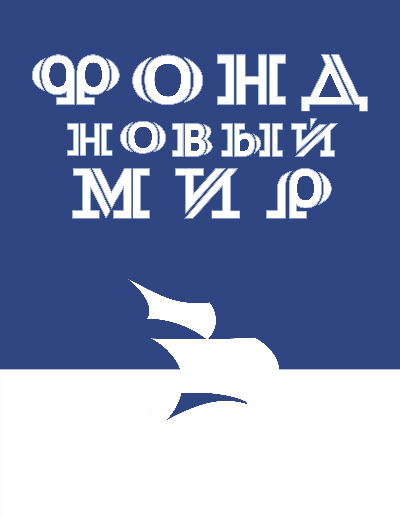Выбор редакции
Проекты
ЛитературоНЕведение
Ангел Мери
«Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.
/.../
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.»
Знаменитое, мандельштамовское.
Кстати: где в русской литературе найдёшь ещё Мери?
Ну где?..
«Гусары, молчать!».
Ну?..
Правильно»
Пушкин, «Пир во время чумы»:
«Председатель:
...Спой, Мери, нам уныло и протяжно,
Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем.» /.../
Мери:
..Мой голос слаще был в то время: он Был голосом невинности...»
И тут – в ответ – мандельштамовское:
«..Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.»..
Вот, как-то так вот.
Казалось бы...
А только есть в этом, казалось бы, простом стихотворении строчки, которые в пушкинский генезис не очень укладываются.
Мне когда-то приходило в голову (да так и осталось, сраслось – пазл во все пазы заходил, без зазора): что мандельштамовская ангел-Мери, скорее – аватар лермонтовской княжны Мери.
Как лермонтовский Печорин – явное продолжение пушкинского Онегина. (В отличие от географических Печоры и Онеги). Тот, в свою очередь – ничем не маскируемый отросток Чайльд-Гарольда.. И т.д. Замыкаем этот байронический круг – чтобы не растекаться мыслею по древу – тем нематериальным, что далёкий «Лондон щепетильный» может прислать в нищий советский 1931-й: энглизированным «Мери».
Если вспомнить главу из «Героя нашего времени» - мерзкое убийство нелепого 20-летнего мальчика-юнкера Грушницкого, церемонные танцы вокруг молодой княжны (которой, если отмести байронизм, просто морочат голову) – и предсказуемый, повторный, природный ночной успех Печорина, «сбондившего» навеки свою Веру...
И, параллельно – радостный успех ОЭМ, сбондившего навеки свою Надежду (да так, что она мучений потом не замечала. Об их счастливой античной сексуальности с завистью и осуждением писала бедная Эмма Гернштейн. И – на английском, с акцентом, в интервью, недавно появившемся на ютьюбовском ролике – сама Надежда Яковлевна..)..
О чём это я..
А вот о чём.
Да – каждый гимназист читал! «Героя..», «Княжну Мери». И тогда, и сейчас. Не говоря о тенишевцах, гипиусовских птенцах.
Чудь начудила, да Мери намеряла, - вот о чём.
Любовь, почти свободная, выдуманного Печорина – и едва существующего Мандельштама – к своей Вере, своей Надежде. (Нет, а всё же: к чему это я? Стишок, вроде, опять застучался.. Ладно)..
И, в оппозиции этим античным, драматическим, ясным поступкам – церемонные, мучительные отношения с несчастной княжной...
Тогда понятным становятся строчки (вроде, раньше непонятно как соотносящиеся с мандельштамовской «Мери»):
«..Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.».
О, да.
Если вспомнить общеизвестный лермонтовский сюжет и хрестоматийных героев, не знавших ни военного коммунизма, ни дьявола-Москвошвея, тогда – понятно: как. И понятно: откуда Мери. И о чём её наставник из будущего 1931-го:
«..По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.»
И – ой, вэй!:
«..Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.»
И – всё.
И Мери полетела – на фаллическом символе – в небеса. Пятилетку спустя. В знаменитой фильме.
«Толстоногая, спой мне Орлова...».
Спой. С английским акцентом:
«Мери, Мери,
чудеса –
Мери едет
в небеса!.».
Ну и – «Маленькие трагедии», да. «Пир во время чумы», конечно.
Пир во время чумы.
На фотографии: гимназистка Надя Хазина (Надежда Яковлевна Мандельштам)
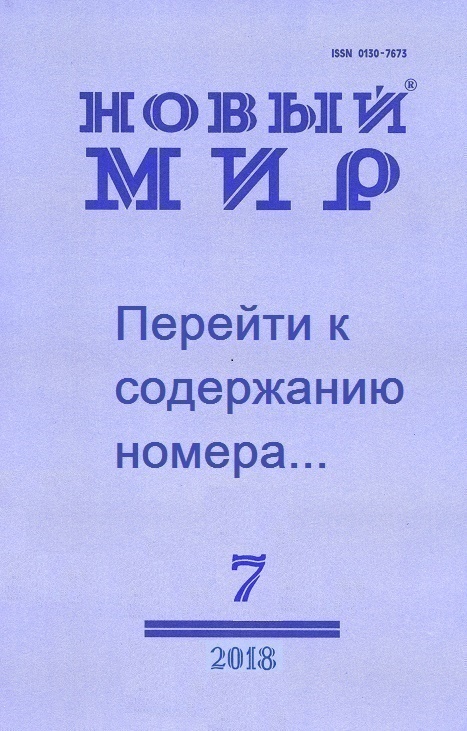
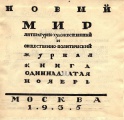



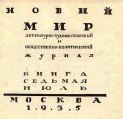

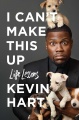
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев