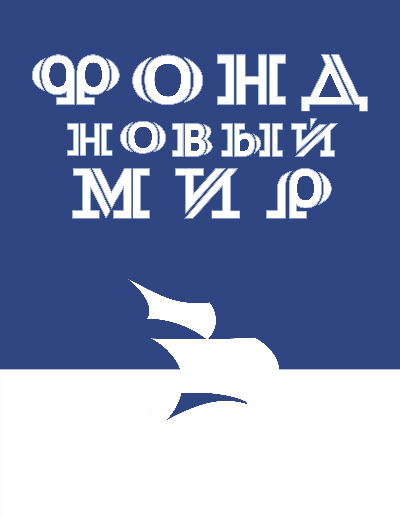Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
«Бегу весёлыми ногами...»
31 марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский
Чуковский, Аристарх прилежный,
Вы знаете — люблю давно
Я Вашей злости голос нежный,
Ваш ум весёлый, как вино.
Полуцинизм, полулиризм,
Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм.
Вяч. Иванов
Некоторые жанровые поэты, сценаристы, литераторы выпрастывали упрёк КИЧу в некоторой «лёгкости», точнее, легкомысленности апперцепции, в частности футуризма. А в 1920 годах разобраться в сонме тематико-искусствоведческих направлений было действительно тяжеловато: тем более что каждый тянул одеяло популярности на себя. Модернизм перекрывался-перекрикивался авангардом, тот, в свою очередь, абсурдизмом.
Чуковский аналитически выцеплял из нагромождения разнообразных синтетических «измов»: кубизмов, экпрессионизмов etc. реальные жемчужины — Маяковского, Хлебникова, Северянина, Тынянова. И за это ему многое прощалось.
Как и творцов, революционных, постреволюционных, — принявших революцию, непринявших, — собственно критиков тоже было предостаточно: Измайлов, Львов-Рогачевский, Неведомский, Адамов.
В ответ на не всегда достоверную критику экспрессионисты пригвождали последних к позорному столбу, обзывали их паяцами и копрофагами и бог весть ещё как и… Вновь мирились и продолжали, в общем-то, веселиться(!). Ведь именно каким-то безудержным кичем массолита, до истерики, — что и отмечал, и осуждал Чуковский, — помечено постреволюционное искусство. Но…
В извечных перебранках поэтов и критиков как таковой злобы — не было. Как не было злобы и ненависти в отношениях Маршака с Чуковским, о чём ходили анекдоты. «Сверху над вами индус, снизу под вами зулус», — смеялся КИЧ над произведением Маршака «Мистер Твистер».
Однажды сцепившись, сдавалось, критик с поэтом уже не могли расцепиться. Будто собачьей свадьбой они носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в следующую: из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Питера в Москву, оттуда обратно. Потом наезжали доругиваться друг другу в гости. Так и не договорившись, «кто же кому обязан деньгами и известностью?» (Б. Лифшиц). Лишь бы это смотрелось талантливо, тонко и чувственно, чего и добивался от искусства КИЧ.
Чуковский считал, что своими лекциями и статьями он создаёт рекламу поэтам, артистам (а в увертюре XX в. поэты, чтецы, декламаторы — всегда отнюдь не плохие комедианты). Те же, наизворот, доказывали, что без них он протянул бы с голоду ноги. То был настоящий порочный круг! — заявлял Б. Лифшиц, — ведь определить, что в замкнувшейся цепи их отношений причина, а что следствие, представлялось совершенно неисполнимым. «Чутьём эпохи» назвала сей «порочный» круг Мариэтта Шагинян. Ведь и те и другие толкали сим образом неумолимое колесо истории вперёд.
Из парадоксального юного критика, владевшего поначалу больше устным, чем письменным словом, — позднее возникли и оформились многие литературные течения.
Правда, и горя он, конечно, хлебнул.
Тяготы 1930—40-х годов. Смерть младшей дочери. После убийства Кирова он погрузился в адское ахматовское Молчание… (В котором ААА будто бы скрывалась от уничижительных Постановлений ЦК, сжигая книги и черновики. И по которому писаны сонмы диссертаций.) Некоторые годы (1938-й, например) полностью вычеркнуты из биографии КИЧа. Не упомянуты вовсе: Молчание…
Арест и расстрел зятя М. Бронштейна, Лидочкиного мужа (1937). Гибель осенью 41-го младшего сына Бориса, ушедшего добровольцем. Серия доносов, из-за которых разгромлены сказки «Одолеем Бармалея» (1943) и «Бибигон» (1945). Уход из детской литературы: «На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего душу кропанья всевозможных (очень тупых!) примечаний… Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский…»
1950-е. Наступает облегчение. Прекращается травля. Снова — после пятнадцатилетнего перерыва — значительными тиражами печатаются сборники сказок, книга «От двух до пяти». (Хулимая, ругаемая. Выдержавшая при жизни(!) автора более 20 изданий.)
1960-е. Все близкие ему люди так или иначе втянуты в начавшуюся борьбу против реставрации сталинщины.
Дочь Лидия — за границей хлопочет об освобождении Бродского. Сам он приглашает Солженицына пожить в Переделкине, после того как у того конфисковали архив. Подпись Чуковского стоит под многими заступническими манифестами 60-х гг. Под петициями, которыми общественность пыталась остановить жуткую контратаку сталинистов и защитить гонимых.
Окружённый сопутствующими повсюду ядовитыми вихрями сарказма, он стал несомненным явлением, событием в литературе: в критике, переводах, мемуаристике и, бесспорно, в текстах для дошколят. Хотя и обижался иной раз, что детская тема безусловно заслоняет взрослую: некрасовскую, уитменовскую. Чего стоит блестящая монография о творчестве д-ра Куниеши Обара, основателя прекрасного токийского детского театра!
(А ведь сплетни про его незабываемых книжно-мультипликационных персонажей ходят и сегодня! Вот одна из них, бродящая по Сети в качестве довольно популярного мема: «Скажите, пожалуйста, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с изображением ветеринара Айболита?!»)
«Сволочи!» — восклицал он. И продолжал: дескать, готов бить кулаками тех мамаш, которые, слюняво улыбаясь, сообщают, что их Тамарочка знает наизусть «Путаницу». «А знаете ли вы наизусть мою книгу об Уолте Уитмене?» — раздражённо спрашивал в ответ КИЧ мамашу, — «А вы разве для взрослых тоже пишете?» — Чуковский чрезвычайно ненавидел такие моменты.
За всю долгую жизнь он искренне любил не так уж много людей, из взрослых. И перо его тоже далеко не всегда было добрым: гораздо легче писалось о тех, кого он ненавидит и презирает, чем о тех, к кому испытывает чувство расположения.
Единственно, кого он обожал горячо, нежно и преданно, бескорыстно и беззаветно — это дети! Свои — чужие, городские — деревенские, близкие и дальние, русские — английские; украинские, бельгийские, узбекские…
Он влюблялся в детей всюду, где они попадались в поле зрения: на улице, на пляже, в библиотеке. Лучшая часть его души непреложно обращена к тем, для кого созданы «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр», «Бармалей».
О детских писателях нередко говорят: да он сам ребёнок! О Чуковском это можно произнести с гораздо большим основанием, чем о любом другом авторе.
Если, скажем, С. Я. Маршак утверждал, что ему — не пятьдесят, не шестьдесят, не семьдесят, а всего лишь 4 года. То Корнею Ивановичу было, вероятно, ещё меньше — три с половиной или около того.
КИЧ — выдающийся критик, язвительный, страстный. (Кое-кто называл его Зоилом.) Весь блеск его лучших статей обязан тому атакующему стилю, «изничтожительному пафосу» (Л. Пантелеев), коим проникнуты как ранние, так и поздние его манускрипты: Вербицкая, Чарская, Мережковский, Чехов, статьи о вульгарных социологах, вульгаризме в творчестве, о гонителях сказок…
Но дело, в общем и целом, не в изощрённой сложности и полисемичности, полифонизме Чуковского. А дело — в его безграничной ребячливости и неугасаемом мальчишестве.
Ведь только этот седовласый ребёнок мог черкнуть младшему товарищу, ни свет ни заря вернувшись из Москвы с собственного 75-летнего юбилея, — измученный и истерзанный этим юбилеем, — что сидит у себя в кабинете на полу и ест конфеты: «...и меня так восхищает их запах, их вкус, — хвастается КИЧ, — что жалко поделиться ими даже с Лидой, с Люшей, с Колей — и с другими семейными».
Ему было 84 года, когда признался в письме к Д. Дару, что и сейчас «очень радуют и снег, и котёнок, и новый забор, и подарки». — Самому пустячному гостинцу он радовался по-ребячьи чистосердечно, изящно, с весёлой галантностью благодаря зашедшего к нему на огонёк.
В апреле 1952 г. семидесятилетнего Корнея Ивановича пригласили на совещание по детской литературе. Доклад читал зам генсека СП СССР А. Сурков.
Чуковский пристроился в конце зала, почти у дверей.
Невзирая на возраст, лицо его пахло свежестью, — вспоминал позднее Евгений Шварц. Седой, стройный, выглядел по-особенному вдохновлённо и даже нежно, ведь собрание посвящено детям! Нарочито широкими движениями длинных рук он приветствовал сподвижников, — пожимая правой левую, прижимая обе к сердцу.
Сурков в это время, недовольно ощутив, что зал несдержанно гудит, — не обращая внимания на докладчика, — оторвался от печатного текста. И, дабы освежить восприятие публики, резко обернулся к находящимся в президиуме Маршаку с Михалковым:
— А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры о детях!
Немедленно сделав томные глаза, Чуковский хрипло, негромко сказал в ответ:
— Да, да, да! Это национальное бедствие!!
Зал притих.
Президиум, наверняка услышав не столь уж и тихое бормотание КИЧа, невольно вскинул взор в сторону выхода. Но Чуковского уже и след простыл. Кто и что нового мог сказать ему с чиновничьей трибуны о детях и детской литературе? Тем паче по бумажке!
— Чуть только я встаю спозаранку, — незадолго до кончины говорил он в коробочку микрофона на радиопередаче, — я тотчас же весёлыми ногами бегу к одному из своих рабочих столов и пишу, не отрываясь от бумаги, часа три или четыре подряд. Ибо до нынешнего дня — а мне уже 88-й год — я всё ещё не бросил пера. Отнимите у меня перо — и я тотчас же перестану дышать!
Этим вот гекельберриевским «бегу весёлыми ногами», несущимися спозаранку к недоигранным развлечениям, к недостроенной снежной крепости, к неистощимому солнечному детству мы и закончим нашу небольшую заметку о Корнее Ивановиче Чуковском. Несносном шаловливом ребёнке… — в наспех накинутой на плечи мантии Оксфордского университета.
«Человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян — убожество их психики, их “тупосердие”». К. Чуковский
Примечание:
Аббревиатуру КИЧ ввёл в употребление литературовед М.Петровский в известном исследовании «Книги нашего детства» (1986). В разборе статьи Чуковского «Нат Пинкертон» о влиянии массовой, кичевой культуры: «…И когда слышишь нынешние споры о происхождении слова «кич», о его тёмной этимологии, хочется предложить: пусть это слово, вопреки лингвистике, но в согласии с историей, расшифровывается — по праву первооткрытия — как инициалы первооткрывателя: Корней Иванович Чуковский. Так биолог, открыв новый болезнетворный вирус, даёт ему своё имя».
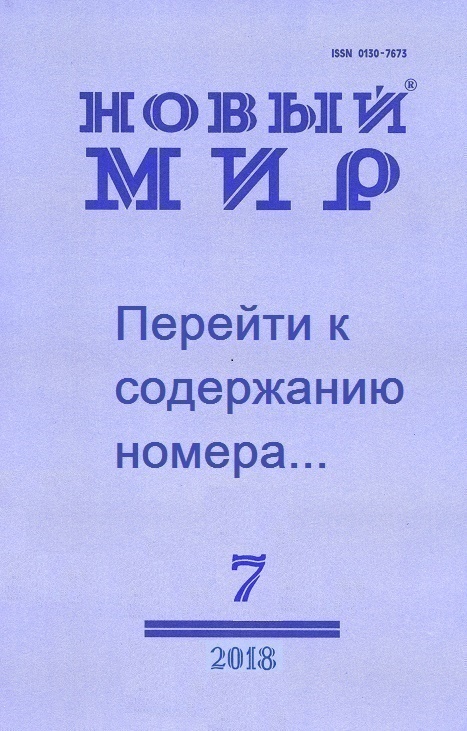
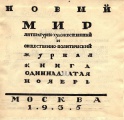



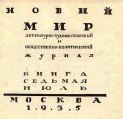

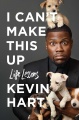
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев