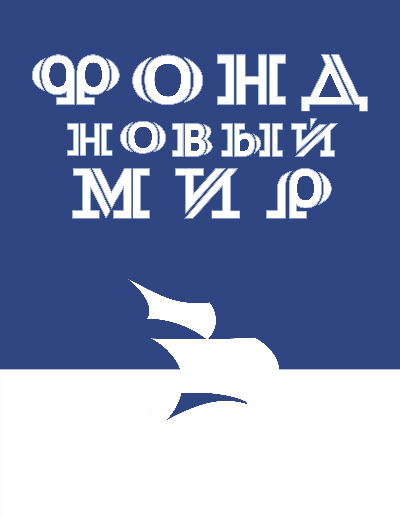Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
Сергеев-Ценский. Безбрежная печаль полей...
30 сентября 1874 года родился С.Сергеев-Ценский, из партии "просто порядочных людей". Старейшина русской советской литературы.
Я и жуликов уважаю. Горький
Начало XX века... С Горьким Сергей Николаевич не был тогда ещё знаком. Однако все свои труды, жизненные перипетии и тяготы он соотносил с горьковским гением, беспримерно ему доверяясь. Исподволь спрашивая у него совета и участия: "Ты сначала дослужись до человека... Человек — это чин, и выше всех чинов ангельских", — вторит он Алексею Максимовичу в "Лесной топи".
Так, вслед однажды произошедшему эксцессу, Ценский — с весёлым смехом — сразу же тепло вспомянёт Горького. И передаст тому незримый привет: развеселивший писателя эксцесс будто точь-в-точь срисован с горьковских страниц.
А дело было так...
Сергей Николаевич ехал с Крыма на север. На Симферопольском вокзале, ночью, пришлось коротать несколько часов до московского поезда. В достаточно сумеречном зале ожидания первого класса единственная яркая лампочка висела, почитай, в самом углу. Под ней и пристроился Ценский с раскрытой газетёнкой, оставив пожитки на сидении. В зоне видимости, ряда через три.
Народу практически не было. Вскоре он и вовсе оказался в одиночестве.
Вдруг скрипнула дверь. В помещение ввалился человек ну явно не похожий на пассажира — цыган.
Нехотя, настороженно осмотрелся и — вот те на! — напрямик плюхнулся рядышком с вещами Ценского: чемоданом и портфелем с рукописью.
"Э, жох, — подумал Ценский. — Точно будет красть. — И, специально не двигаясь с места, начал вполглаза следить. То-то будет дальше: — Интересно".
Расстояние — шагов десять-пятнадцать. В принципе, надо быть очень расторопным и крайне наглым, чтобы попробовать умыкнуть что-либо прямо из-под хозяйского носа: "Нда-с, оказия"... — мерещится купринский оскал.
Так они наблюдали друг за другом. Ценский, ухмыляясь из-за распахнутой газеты. Цыган искоса и не шевелясь. Демонстративно скрестив на груди руки: дескать, накося, дядя, выкуси.
После пяти-семи минут молчаливого "противостояния" непрошеный гость тихо встал и вышел прочь. Так ничего и не своровав.
И только когда подошло время собираться к поезду, обнаружилось, что под скамейкой, увы, нету галош.
В действительности же, пока внимание С.-Ц. было сосредоточено исключительно на руках воришки, тот, упрямо глядя на визави, шарил ногами под диваном. Нащупал галоши. Каким-то невероятным образом, не шелохнувшись, обулся в них. И немедленно свалил.
"Вот почему я не слышал стука каблуков!" — отметил писатель слишком уж бесшумное исчезновение цыгана. И... громко расхохотался на всю ночную округу! Под гул вокзальных сводов.
Почти новая, недавно купленная обувка — сущий пустяк по сравнению с решительностью и смелостью проворного жулика. Вторя Горькому, Сергей Николаевич почувствовал себя в тот момент не то что не обворованным. А сверх того, обогащённым прекрасным жизненным опытом. Знанием. Столкновением с изнанкой бытия простых людей.
В связи с вышеприведённой жульнической историей в памяти тут же всплывает андреевский "Вор". Вспоминаются также отношения Ценского с Леонидом Андреевым вообще и стремительные пересечения их творческих стилистик в частности.
Несмотря на то что С.-Ценский резко и безапелляционно отделял себя, реалиста, от "битого стекла" андреевского структурализма, они во многом схожи. (К примеру, С.-Ц. бесконечно благодарен Л.Андрееву за знакомство с боготворимым обоими Блоком. И за его художественническое благословение Ценского.) Сходны традицией проникновения в "суть вещей", как говорил тот же Андреев о великом Валентине Серове.
А в "Одесском обозрении" даже нашёлся некий горластый критик, заявивший, что Ценский, — как во времена оные издевался над Лермонтовым Плетнёв, — "обезьянничает"-плагиатит: "...крупные таланты обладают одним большим недостатком: они создают подражателей. Таким большим недостатком Леонида Андреева является г-н Сергеев-Ценский".
Всё это, естественно, пустое. Игра слов, не имеющая к реальности никакого отношения.
Ценский шёл своим путём. (И уж ежели сопоставлять, то, думаю, не ошибусь, — с Иваном Шмелёвым.) Андреев шёл своим. Кроме всего прочего, в начале века он чрезвычайно увлёкся кинематографом и сценарным ремеслом. Но тем не менее.
Сравним пару отрывков.
Л.Андреев. "Вор":
"...Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой площадке вагона, тревожно почувствовал эту стихийную необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя; где-то за спиной Юрасова заходило солнце и по всему простору земли расстилало длинные, прямые лучи, — и никто не смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нём и не знал. В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза, и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково, — а здесь никто не смотрит на него и не знает о нём. И вагоны задумчивы: тот, в котором находится Юрасов, бежит нагнувшись и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее ни медленнее, как будто сам собой, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается. А по низу, под вагонами, стелется разноголосый грохот и шум: то как песня, то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор — и всё о чужом, всё о далёком".
С.Сергеев-Ценский. "Ближний":
"...Зачем-то топили по-зимнему много. Вентилятор вверху не открывался. Было душно, сухо, неряшливо, шумно, тесно, и сильно пахло не то новой клеёнкой, не то жжёной пробкой, не то щенком. Через открытую дверь видно было всё целиком окно в коридоре, а в окно — поля. В окне, как в одной и той же раме, всё менялись картины, и если бы Чекалов был художник, может быть, он бы и любовался этим низким, длинным, синим набухшим облаком, например, и ждал: а как оно пойдёт дальше? А какой примет тон?.. Или эта речонка — какой она даст излом вот сейчас?.. А теперь к этому пару с сухим перекати-полем, ух, хорошо бы жирную, драную, сырую, чёрную пахоть в соседи!.. А ну? — Есть!.. Но Чекалову с этими клочками полей в окне было скучно: все — немые, все — на одно лицо".
Да, совпадение. Вагоны, стук колёс, небо, облака, безбрежная "печаль полей", беспредельное немое отчуждение. Какое же это подражание. Наизворот. То слышится дыхание, шум ветра скорых, скорбных и неизбежных перемен, наступающих грохочущим издалека товарняком. Перемен, пойманных кистью истых летописцев, свидетелей своего времени. Авторов нашей с вами истории, дорогой читатель. Общей неминуемой беды. Общего несбыточного счастья.
К слову, критика сравнивала Ценского и с Куприным. Но там иной казус: непримиримый и беспощадный к недругам Куприн сразу лез с неугодными в драку, потчуя оплеухами и целясь прямо по "физиогномии", как говаривал в свою бытность Некрасов. Поэтому мы опустим сию страницу.
...Между делом, что касаемо лично меня, то я бы уподобил "краснопись" Ценского палитре Куинджи — настолько щедры и плодовиты, глубоки его пейзажи. Настолько подлинны, песенно-остры оттенки и краски его полотен, природных зарисовок. От которых веет любовью и... живописью: "Опускалось солнце, и зелёная трава вдоль дороги стала ярко-оранжевой, а белые гуси в ней синими, точно окунуло их в жидкую синьку".
Подобно Куприну, к откровенным графоманам и подлизам от литературы Ценский так же нетерпим — и в глаза выговаривал всё, что думал. Невзирая на лица. До конца дней оставаясь нелюдимым анахоретом, даже живя в столицах. И чтобы неуёмные щелкопёры не досаждали ему никчемными визитами, вывешивал на дверях номера в "Пале-Рояле" бумагу: «Сергеев-Ценский не бывает дома никогда!».
Но писатели всё одно, вереницей, шли и шли за его честными и прямыми отзывами. Редакторским напутствием. Видя в нём неугасимую мощь, гуманизм, незыблемый отечественный историзм. Подкреплённый серьёзной практикой и блестящим образованием, образованностью. Бунинской "словесной чувственностью" и знанием исподнего народного материала. Видя твёрдость и неизменную веру в правду жизни.
Как, нимало сумняшеся, изрёк толстовский мужик будто бы непосредственно о С.-Ценском: "Про неправду всё написано".
Таким, коротко, был Сергей Николаевич Сергеев-Ценский начала прошлого века. С днём рождения!
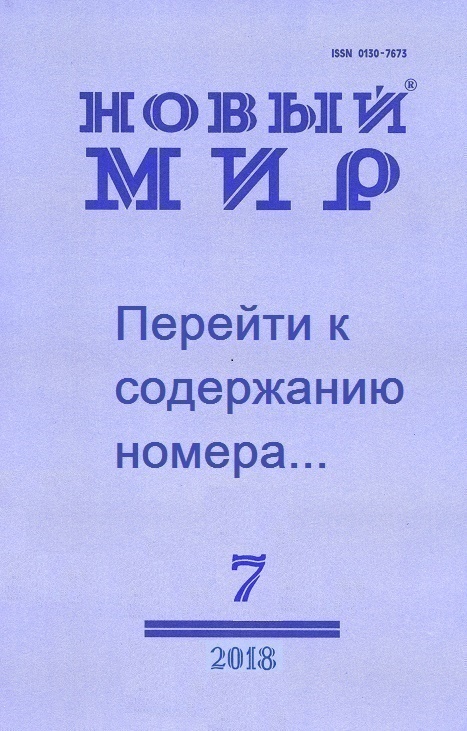
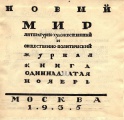



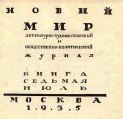

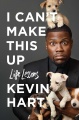
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев