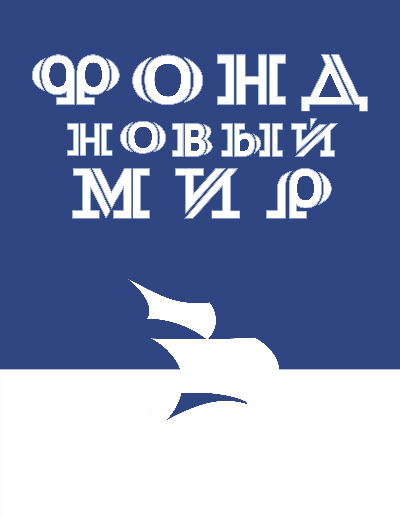Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
Глядя на макушки деревьев Таврического сада…
28 февраля 1866 родился яркий представитель искусства Серебряного века, поэт-символист, философ, переводчик, драматург, литературный критик, доктор филологических наук, идеолог дионисийства Вячеслав Иванов.
Зимний сезон 1913—1914-го выдался чрезвычайно возбуждённым и не на шутку радостным.
Народ жадно предавался ликованию и пиршествам. Театры, концерты, танцы. Святочные балы.
В ту пору в заснеженной Москве бог весть откуда появляется сумеречный, почти по Лермонтову, странник — старик-призрак…
Как потом выяснилось, звали его доктор Любек. «Он был мистик и мистически одарён», — отмечал впоследствии Бердяев в «Самопознании».
Родом из Швеции, с пышной бородой, длинными волосами, странно одетого, его приняли во многих домах. Поразивший людей феноменальным своим вниманием, добротой, чуткостью и экстраординарной проницательностью, Любек рассказывал о тех, кого лицезрел впервые так, ровно досконально изучил их прошлое. Да и грядущее тоже.
Именно он напророчил смерть жены Вяч. Иванова. (Действительно, Вера умерла в 1920 от туберкулёза, — авт.) Именно он предрёк неведающему праздному и праздничному братству новогодних гуляк приближающийся ураган войны, вскоре пронёсшийся над Европой. России — одну из грандиознейших революций и позорный проигрыш в войне. Что только добавило какого-то диковато-бесшабашного энергетического фатума в веселье.
Было ли то интуитивным предчувствием, что идёт последний светлый и беспечный год? Или всем точно завязали глаза шёлковой вуалью, просвечивающей «мирьядами» рождественских огней? Теперь уже неважно.
Важно иное.
То, что начинался новый мир, новая эпоха, новое течение дней: качание «неумолимых весов» сущего. Новейшая и, к счастью, долгая история жизни и творчества Вячеслава Ивановича Иванова.
Мы же, господа, давайте ещё раз заглянем в прошлое. В туманы незабвенного вчера. Припорошенного «сребра чеканного» светом воспоминаний:
Людских судеб коловорот
В мой берег бьёт неутомимо:
Тоскует каждый, и зовёт,
И — алчущий — проходит мимо.
…В круговращеньях обыдённых,
Ты скажешь, что прошла насквозь
Чрез участь этих пригвождённых
Страданья мировая ось.
Голос из кухни: «…тихо-тихо. Баре говорят: надо есть сено! В нём сосредоточены все необходимые элементы».
Второй голос: «Странно! Общаются по-русски? А ничего нельзя понять!» — восклицала суетная прислуга в переполненной, кишащей пишущим, страждущим Пегаса людом, «башне».
Перешёптываясь, прикрывая рот рукой: «А вот эта-то, лико! — прямо так и заявила хозяину: вы должны помочь мне родить… сверхчеловека! Прямо при жене заявила». — Не ведая, конечно, что «эта» вот супруга Волошина, ярая антропософка Маргарита, в девичестве Сабашникова, имела на то право.
В бытность свою учившаяся, не без успехов, живописи этажом ниже — в школе Бакста и Добужинского; да и в хореографическую к Знаменским забегала, там же. Она-то и пробила брешь в семейной, с виду, идиллии соседей.
Да и сам «неистовый», я бы сказал, «неистовейший», по аналогии с Белинским, Максимилиан Александрович не лишён был мистицизма. Вплоть до тамплиерских пристрастий. Правда, с Сабашниковой таки развёлся — извела. «…Кто в ласках тел не видел утоленья. Кто не испил смертельного вина…». Но не суть.
А то ещё придётся коснуться тройственно-«божественного» союза Мережковских с Философовым. И гиппиусовское, шипящее, сквозь лорнетку «гулящей девки», как Зинаиду Николаевну окрестила супруга Иванова: «…скажите мне что-нибудь для меня интересное и страшное».
Или немыслимые любовные триоли-выкрутасы «Гоголька»-Белого, как его ласково называл Иванов…
К тому же в полном смысле слова «нетрадиционалист» — «отец поэтов» Кузмин, смотрите-ка, прикорнул в уголке, делая засыпающий вид.
Сколько народу перебывало в Башне!! — не счесть, — восторгалась дочь Вяч. Иванова — Лидия.
Гости, бывало, останавливались с ночевой: кто на два-три дня, кто и вовсе надолго: «Мы — спутники твои. Тебе мы были милы. Навек ты — наш!». Некоторые особо неспокойные москвичи ехали в Питер без предупреждения, обвешанные чемоданами и поклажей.
Ивановым пришлось даже проломить стену и вставить дверь. Присоединив к двум имевшимся ещё одну квартиру, трёхкомнатную, — окнами на Таврическую, с отдельным входом. В последние годы в ней поселился упомянутый Кузмин.
Описаний про «башню» не счесть. Чего стоят «Встречи» Пяста 1929 года. Тут и Зайцев, и Жорж Иванов. Интересно другое.
Внизу пятиэтажной «башни» (кто-то насчитывал и шесть, и семь этажей, — учитывая круглый эркер и надстройки), у лифта, ездившего до четвёртого, священнодействовал швейцар Паша. Вот был типаж!
Средних лет, одетый в ухоженную опрятную ливрею прежних времён — будто в «хороших домах» старого Петербурга XIX века, — чуть ли не с булавой, он памятником возвышался до полуночи в подъезде на Таврической. Благочинно, с поклоном впуская бесчисленных гостей наверх.
Не успев вздремнуть, глотнув с устатку дарёный коньяк, вскоре приводилось вскакивать-просыпаться. И в пиджачке и калошах на босу ногу безропотно провожать наружу ранних пташек — кому на службу, в универ, на курсы. Принимая ничтожную мзду из студенческих и богемных рук «за бужение в неурочный час».
Доходило до смешного.
Паша до такой степени свыкся с «башней» и настолько отожествлял себя с её жильцами, что в беседах употреблял фразы не иначе как «мы тут живём с Ивановыми», «наша с ними площадь», «наши гости», «мои постояльцы», «ко мне давеча заехали Блок с Ахматовой». Вроде того: «…к нам тут намедни приезжал министр Плеве. Но мы его не приняли». — Имея в виду зловредного командующего русской армией Куропаткина, поселившегося внизу «башни» в 1904-м.
А единственный на весь дом телефон в лифтёрной выдавал ну ровно за свою собственность, с гонором и неким сожалением. Претендуя, непреложно, на чаевые.
У этого Павла, — как и полагалось подлестничным жильцам, — было несметное количество детей. Что преисполняло необыкновенным шармом сумятицу дней, окружённую непререкаемыми богами Серебряного века...
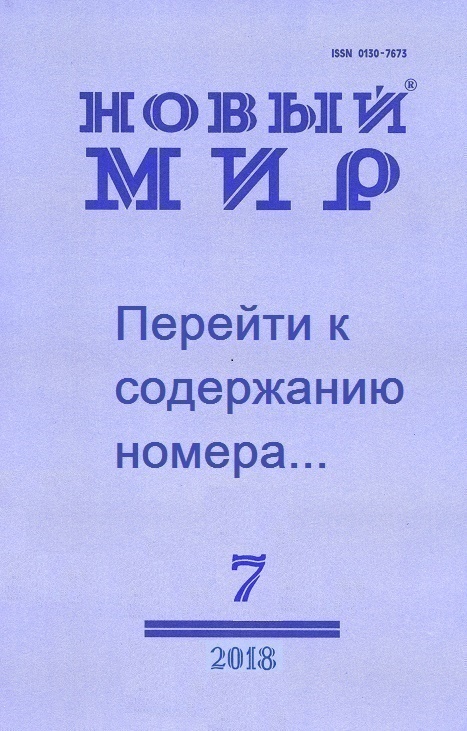
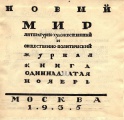



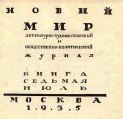

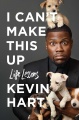
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев