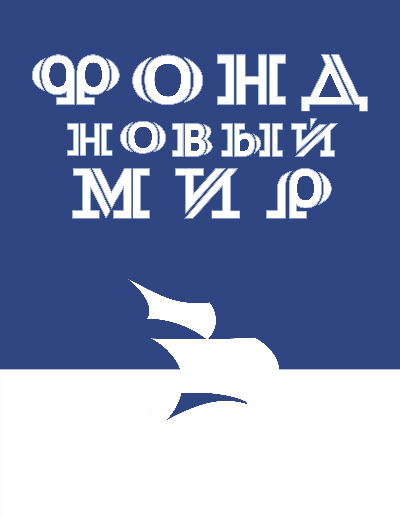Выбор редакции
Проекты
Александр Марков
Как серафим у Боттичини: искусствоведческая ошибка Иннокентия Анненского и ее мировоззренческий смысл
“Тоска возврата” Иннокентия Анненского, сонет с нетрадиционной рифмовкой, воспроизводящий значительную часть образности стихотворения “Святая” Стефана Малларме (1865; больше известно по песне Равеля 1896 г.), сначала вызывает недоумение: как Серафимы, высший чин ангелов, сравнивается с пережитым обычным днем.
В стихотворении противопоставлется исповедальная (ночная) и хоровая (дневная) поэзия, что восходит к античному различению сольной (выражающей индивидуальные чувства) и хоровой (выражающей коллективные чувства) лирики. Корифеем хоровой лирики в сонете объявляется Серафим, который смолкает вместе с хором, и он при этом уставший как небо (“лазурь”) и способный замереть ради внимания.
Больше всего описанию Анненского соответствует маньеристская картина Россо Фьорентино “Музицирующий ангел” (ок. 1520): приникший к грифу струнного инструмента ангел вызывает теплые чувства; но виолончель вовсе не умолкшая, пальцы ангела на додекахорде (двенадцатиструнном инструменте) складываются в правильный аккорд. И также Россо Фьорентино можно было спутать с Боттичелли только по пребыванию его произведений в Уффици неподалеку от творений Боттичелли, если смотреть альбом Уффици с репродукциями низкого качества. Есть также фреска с музицирующим ангелом работы Мелоццо да Форли (1480), которую изредка приписывали Боттичелли. На фреске дан ангел в красных одеждах, напоминающих красный цвет Серафимов, но при этом его инструмент никто не назовет сейчас “виолончелью”, и кудри его аккуратно прибраны.
Но скорее всего, Анненский спутал Боттичелли и Франческо Боттичини: его “музицирующие ангелы” (ок. 1475--1497) больше всего подходят к описанию. Один из ангелов в композиции Боттичини на длинной доске играет на инструменте, держа его на плече, что отвечает современному пониманию виолончели, локон рассыпается по боковой части корпуса, играет с помощью смычка, наконец, ангелы Боттичини действительно пламенные: ярко-красный цвет в композиции преобладает. Усиливает мысль о том, что танец ангелов -- это хорал, хоровое ликование, лента с латинской надписью “Хвалите Его во псалтири и гуслях”: единая хвала, под руководством корифея-псалмопевца, при изображении на плоскости только ангелов требует мысленно назначить корифеем одного из высших ангелов, чтобы внимание к хору было мотивировано не поэтом как героем (псалмопевцем), а героем как свободным персонажем, способным в своей свободе и притомиться (ангелом).
Собственно, Боттичини в “Вознесении Марии” (ок. 1475, Нац. г-я Лондона) и научил искусство размещать святых с их орудиями страданий прямо среди рядов ангельских чинов, составленных полностью по описанию Ареопагита, копьеносных ангелов, над которыми пламенные младенцы серафимы. Истязаемые, томимые святые появляются не вне ангельского пространства, а внутри него, просто как участники внимания к деве Марии, в каковом внимании они изжили страдания своей жизни.
Такая плоскостная композиции и отвечает мысли Анненского, что важнейшим для восприятия как одинокой исповеди, так и ликования является не вовлеченность, а внимание, наблюдающее ход времени из глубины собственной тоски. Эта тоска и выхватывается лучом пережитого дня. При этом поэт в мире Анненского не претендует на роль корифея, он оказывается отодвинут в темную глубину храма, тогда как вереница теней и впечатлений, вроде ряда ангелов на доске Боттичини, создает собственного корифея. Почему с ангелом сравнивается обыденный день -- просто потому, что обыденность и есть индивидуальный опыт, который только во внимательной тоске станет опытом корифея, причем корифея идеализированного, изображенного. Свободное дыхание композиции придет извне, а не как часть индивидуального опыта свободы.
Но в чем причина, по которой поэт спутал имена звучащих сходно, но писавших столь различно живописцев? Античные правила создания прически требовали особой завивки: нужно было разделить волосы на пряди, и свивать их отдельно, наподобие кос, только без всякой стягивающей натуги кос: только тогда они создавали особое впечатление легких волос, реющих на ветру. Это реяние и оказывается тем пониманием свободы, которое внушает читателю Анненский: свободы, которая приходит извне, но не рассеивает, но напротив, требует внимание к любым деталям, включая детали прически.
Если Боттичелли действительно думал о воспроизведении античной пластики, что показывает больше всего его реконструкция “Клеветы” Апеллеса--Лукиана, то Боттичини об этом думал меньше. Анненский, конечно же, стремится вернуть образ к античной пластике, и показать, что Серафим несет в себе эту бурю хорала, что умолкшая буря хорала -- это рассыпанная прическа, что действие подчеркнуто иконически. Действие не может быть просто описано, оно должно быть отмечено. Поэтому, смотря на Боттичини, Анненский думал о прическах Боттичелли.
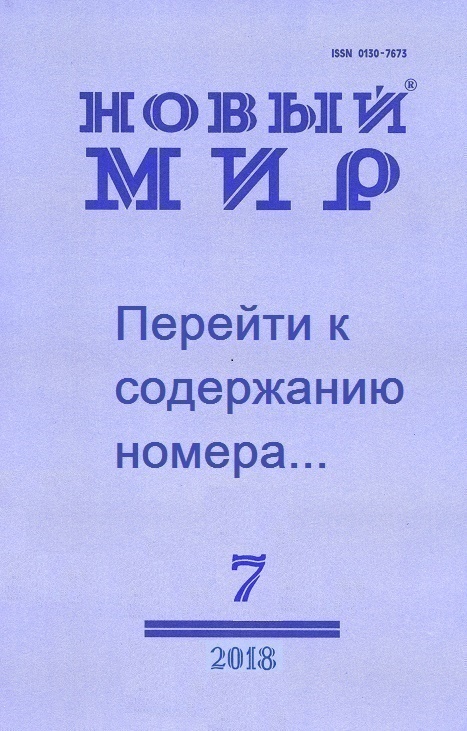
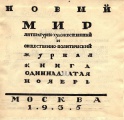



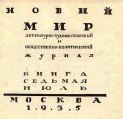

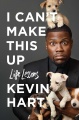
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев