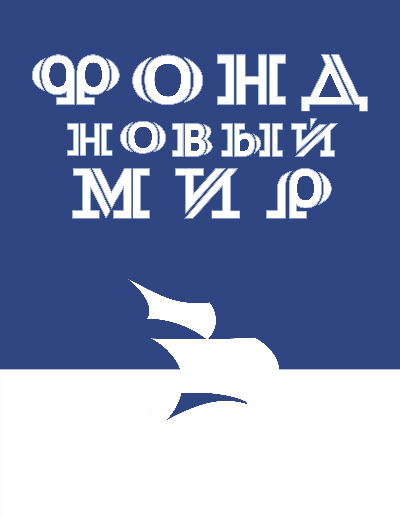Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
Нас тут палкою не бьют, блохи не грызут!
105 лет назад, в ночь с 31 декабря 1911 на 1 января 1912 г. открылось Художественное общество интимного театра — арт-кафе «Бродячая собака».
Cave canem! — Бойся собаки! Девиз «Бродячей собаки» 1912 года —
ставился в углу концертных повесток.
За два дня до открытия подвала графу Алексею Толстому исполнилось 29 лет.
Толстой помог антрепренеру Б. Пронину, первому хунд-директору «Бродячей собаки», созвать на новогодний вечер, предваряющий творческую жизнь арт-клуба, квинтэссенцию артистического Петербурга: Т. П. Карсавина, М. М. Фокин (балет); Ю. М. Юрьев — Первый кавалер Ордена Собаки, В. П. Зубов, Н. Петров (театр); К. Д. Бальмонт, Игорь Северянин, П. П. Потёмкин, Саша Чёрный, О. Э. Мандельштам, М. Лозинский, Владимир Нарбут, М. Зенкевич (цех поэтов); символист Тиняков (в будущем профессиональный нищий: «Подайте бывшему поэту!»); «сатириконовка» Тэффи; композиторы Илья Сац, Эренбенг; издатель и критик Сергей Маковский (журнал «Аполлон»); художник Илья Зданевич (Ильязд).
Подвал «Бродячая собака» Художественного общества интимного театра был торжественно открыт в новогоднюю ночь с 31 декабря 1911-го на 1 января 1912 года.
Во втором дворе подвал,
В нём — приют собачий.
Каждый, кто сюда попал —
Просто пёс бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!
«Когда уже был поднят не один тост, и температура в зале в связи с этим также поднялась, — вспоминал Николай Петров, — неожиданно возле аналоя появилась фигура Толстого.
В шубе нараспашку, в цилиндре, с трубкой во рту он весело оглядывал зрителей, оживлённо его приветствовавших:
— Не надо, Коля, эту ерунду показывать столь блестящему обществу, — объявил в последнюю минуту Толстой (имелась в виду одноактная пьеса Алексея Толстого, где на сцене по ходу действия аббат должен был рожать ежа)».
Так начался первый сезон кабаре «Бродячая собака».
«Ольга Высоцкая, актриса Дома интермедий, придя одной из первых, сняла с руки длинную белую перчатку и набросила её на деревянный круг. Подошедший Евреинов повесил на одну из свечей чёрную бархатную полумаску» (Н. Петров). — Эти реликвии, — с санкции Н. Сапунова, великолепного художника, театрального сценографа, — и висели на люстре всё время, пока существовала «Собака».
К великому несчастью, через шесть месяцев Николай Сапунов трагически погиб, утонув. Перевернувшись вместе с лодкой во время прогулки по заливу в Териоках под Петербургом.
Владимир Александрович Склярский (1947—2011), бессменный руководитель возрождённого в XXI веке арт-подвала, вспоминал:
«Художник Сапунов в 1912 году пенял Пронину: «...Борис, не пускай сюда «фармацевтов», на что тот резонно отвечал: «Хамы, а кто платить будет?!» — Так, ясно, без «фармацевтов» не обойтись, — продолжал Склярский: — Памятуя печальный опыт Пронина, который вынужден был искать «фармацевтов» ещё в 1915 году и оставил подвал также и по причине его маленьких размеров. Я, второй хунд-директор, принимаю решение присоединить к исторической части подвала и другую, так сказать, нью-собаку. Тем самым узаконив институт «фармацевтов», создав зону их накопления — “фармацевтник”».
На дворе метель, мороз,
Нам какое дело!
Обогрел в подвале нос
И в тепле всё тело.
Нас тут палкою не бьют,
Блохи не грызут!
Гав!
«У входа всегда стояли или Пронин, или Луцевич, или Цыбульский. Поэты, музыканты, артисты, учёные пускались даром. Все остальные назывались «фармацевтами», и бралось с них за вход по внешнему виду и по настроению» (Судейкин).
Вечера были объявленные и необъявленные. На необъявленных бывали экспромтные выступления поэтов, музыкантов и артистов. На вечер объявленный, то есть подготовленный (а готовились часто месяц к одному вечеру), входная плата была от пяти рублей и выше.
Разве можно описать все постановки «Бродячей собаки», все спектакли? — вопрошал в своих воспоминаниях Судейкин (1882—1946).
Решалось всё просто, продолжает Сергей Юрьевич:
— А почему не устроить вечер романса Зои Лодий?
А почему и не устроить?
— А почему не устроить вечер Ванды Ландовской?
А почему и не устроить?
— А почему не устроить вечер Далькроза с конкурсом императорского балета, вечер «Цеха Поэтов», вечер чествования Козьмы Пруткова, вечер современной музыки, доклад о французской живописи?
А почему и не устроить?
«Так осуществлялись вереницы вечеров. У нас был свой оркестр, в котором играли: Бай, Карпиловский, братья Левьен, Хейфец, Эльман».
Особенно запомнился «Вертеп кукольный. Рождественская мистерия» М. Кузмина (сочельник 1913 г.) с ангелами, демонами, тайной вечерей. «На этот вечер в первый раз к нам приехал великолепный Дягилев, — вспоминал Судейкин. — Его провели через главную дверь и посадили за стол. После мистерии он сказал: «Это не Амергау, это настоящее, подлинное!»
Восхитительный танцевальный концерт Т. П. Карсавиной (28 марта 1914 г.) — «…вечер богини воздуха. Восемнадцатый век — музыка Куперена. Невиданная интимная прелесть» (Судейкин).
Программой «Conference» по поводу 25-летия поэтической деятельности К. Д. Бальмонта 13 января 1912 г. заложена была традиция поэтических вечеров. Хотя сам Бальмонт, увы, был в изгнании.
Вечер «Радуясь Юрию Юрьеву» 16 января 1913 г. заложил основу актёрских вечеров. (Ю. М. Юрьев — известный актёр Александринского театра. В кабаре отмечалось 20 лет его творческой деятельности, — авт.).
Например, 2 февраля 1912 г. состоялся концерт из произведений Э. Грига, Аренского при участии первого театрального композитора, реформатора Ильи Саца. Который, к несчастью, скоропостижно скончался в октябре этого же года, работая, как это ни жутко звучит, над ораторией «Смерть»…
Всевозможные циклы: «Собрания исключительно интеллигентных людей». «Среды», «субботы», заседания, лекции, доклады на различные темы. Начиная от литературы («Символизм и акмеизм» С. Городецкого, ставший программным для акмеизма и «Цеха поэтов») и заканчивая пятнами на солнце.
Неделя кавказской культуры (апрель 1914) Н. Кульбина — «…в Петербург он возвратился сверх обычного возбуждённый, переполненный впечатлениями от восточной экзотики... Ворох разноцветных тканей, платков, груду майолики, домашней утвари, персидских миниатюр он прямиком везет в «Собаку», где организует их выставку» (Тихвинская).
Футуристы вообще сформировались в стенах «Собаки»: «Вечер Пяти», «Вечер Маяковского», вечер, посвященный литературно-художественному сборнику «Стрелец», полностью были посвящены футуризму.
Здесь читали свои произведения В. Хлебников, А. Кручёных, Н. и Д. Бурлюки, В. Каменский, эпатэ Маяковский: «Здесь падалью не питаются!»
Одно из главных достижений «Собаки» — театр — явился целой эпохой в жизни режиссёров кабаре Н. Н. Евреинова (изысканного эстета в духе Оскара Уайльда) и Н. В. Петрова.
Первый к этому времени уже организовал театральную студию. А второй был ещё только помощником режиссёра Александринского театра. Но, во многом, именно творчество в «Бродячей собаке» позволило стать им в будущем блестящими режиссёрами.
Список людей искусства, которые начали артистический путь в «Собаке» можно продолжать бесконечно. Так же долго можно говорить и об их достижениях. Но, назвав лишь основные имена, мы уже имеем право заявить о той важной роли, которую сыграло кабаре в культуре Серебряного века.
…Уже поздно (или ещё рано — расходятся-то к шести).
Два ночи, слышите?.. — можно даже не прорываться с улицы в подвал, если вы ещё окончательно не продрогли.
Изнутри доносится:
Угрюмый дождь скосил глаза
А за
решёткой
Чёткой
Железной мысли проводов перина,
И на
Неё встающих звёзд легко оперлись ноги...
Но ги-
бель фонарей
Царей,
В короне газа,
Для глаза
Сделала больней
Враждующий букет бульварных проституток,
И жуток
Шуток...
Хотя, если и спуститься вниз, — то наверняка вы испытаете ощущение какой-то сирости, ненужности.
В подвале холодновато. И все фрески, занавесы, мебельная обивка, — все шандалы, барабан и прочий скудный скарб помещения, — всё это пахнет бело-винным перегаром.
Ночью публика приносит свои запахи духов, белья, табаку и прочего, — обогревает помещение, пересиливая полугар и перегар...
Вон, в сторонке скучковались-сгруппировались акмеисты: Ахматова, Гумилёв, Мандельштам. Рядом «мальчики» из Цеха поэтов — Георгий Иванов, Георгий Адамович.
«Ахматова сидит у камина. Она прихлёбывает чёрный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна! Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюблённые, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами…» (Иванов).
— Слышишь, Вась, вчера вычитал в английской прессе, — окликнул друга начинающий учёный Витя Жирмунский.
— Что? — выпуская струю дыма, повернулся к нему Гиппиус (псевдоним Бестужев).
— Помнишь изречение Резерфорда про то, что единственный способ узнать, что внутри пудинга — это ткнуть в него пальцем?
— Да-да.
— Так вот. Резерфорд вновь отличился: «Теперь я знаю, как выглядит атом», — заявил он.
Молодёжь зашлась смехом.
— Не зря ведь премию получил.
— Кстати, в курсе, что Нобель пожелал в конце жизни?
— Да-да, — ответил друг после очередной порции глинтвейна. — Вернее, нет-нет… — нетрезво ухмыльнувшись.
— Так вот, он пожелал, чтобы после смерти ему на всякий случай перерезали вены, потому что однажды его уже спутали с умершим братом и даже написали в газете некролог.
И так без конца — от литературы к науке, потом в дебри петербургских слухов-сплетен. И обратно — к литературе…
А подойди часом раньше, то перед выступлением Маяковского вы попали бы на филологически-лингвистическую, скучнейшую с точки зрения обывателя лекцию Виктора Шкловского «Воскрешение вещей».
Юный ученый-энтузиаст распинался в этот раз по поводу оживлённого Велимиром Хлебниковым языка. Преподнося в твёрдой скорлупе учёного орешка труднейшие мысли Александра Веселовского и Потебни, — уже прорезанных радиолучом собственных «инвенций». Даром мощного своего именно воскрешённого, живого языка заставлял он внимать, не шелохнувшись, многочисленнейшую публику. Отставившую на время бокалы с вином. Наполовину состоящую из «фрачников» и декольтированных дам — «фармацевтов».
Жаль, не успели послушать…
Ничего, завтра, к часу ночи, Шкловский (1893—1984) снова примчит сюда. Готовый к всенощным прениям. Воодушевлённый запрещёнными полицейской властью лекциями в Тенишевском училище или Шведской церкви: «Богема в литературе», «Ришпен и его произведения» Франсеза, «Культура энтузиазма» Верхарна (кстати, забегавшего в «Собаку»), либо «Интимная жизнь Наполеона» выдающегося историка и архивиста Франца Функ-Брентано.
Возможно, завтра Витя прочтёт «Место футуризма в истории языка». Что-то о будетлянах… А может, ввернёт в лекцию акростих:
Живёт и света не имеет,
О ней никто не говорит...
Побьют её — лишь покраснеет.
А иногда и заворчит.
*
Лаем, воем псиный гимн
Нашему подвалу!
Морды кверху, к чёрту сплин,
Жизни до отвалу!
Лаем, воем псиный гимн,
К чёрту всякий сплин!
Гав!
Гимн Всеволода Князева
Вон Прокофьев с Шапориным, им по двадцать…
И слушают они, раскрыв рты, кого бы вы думали? — великого афериста, мошенника, самого князя Туманова-Церетели (правда, лишённого титула за многочисленные криминальные авантюры).
В очередной раз вышедшего из тюрьмы, последний срок получившего за варшавскую банковскую афёру в 1906 году:
— Я — не преступник. Я — артист. То, что я делал, это не преступления. Потому что банки грабят публику. А я — банки.
— Многие в Одессе меня обдурили. А я ведь сам по себе человек добрый и всё «заработанное» в Одессе проиграл в рулетку. А часть денег раздарил и отдал солдатам и раненым.
— Знаете… Однажды Путилин (начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции, — авт.), поддался на мои увещевания раскрыть место, где делают ассигнации. И несколько дней возил на рысаках. И в ожидании появления сообщников потчевал меня в трактирах. В конце концов, понимая, что розыгрыш зашёл слишком далеко, я возле Египетского моста указал на Экспедицию заготовления государственных бумаг: мол, вот где деньги делают, ваше превосходительство! Путилин изумился, вернул меня в камеру и… не наказал. Мол, достоинство не позволяет — опростоволосился-то сам.
Интересно, что хунд-директор Пронин никак, никогда и ни за что не мог заполучить в «Собаку» Блока (в отличие от его жены, Любови Дмитриевны).
И это несмотря на то, что лично к Пронину Блок относился очень дружелюбно. С безграничной чуткостью в годы своей юности и молодости разделявший людей так, что иных вовсе исключал из всякого общения с собою.
Блок твёрдо и решительно заявлял про хунд-директора, что он — «не неприличный человек». Блок всё-таки оставался «дневным человеком».
«Мы же, благодаря «Собаке», — вспоминал Пяст, — совсем стали ночными. Я хотя попадал почти ежедневно часам к половине второго, к двум, на службу, — и успевал там поперевести из Тирсо де Молина либо ответить своим сослуживцам на несколько вопросов из выдуманной мною, якобы основанной Курбатовым, науки «Петербургология», тогда как сидевший за соседним столом А. Е. Кудрявцев спешно готовил «Иностранное обозрение» для «Летописи», журнала Максима Горького, — но, вернувшись в шестом часу домой, после обеда погружался в сон, чтобы встать иной раз как раз к тому времени, когда пора было собираться в «Собаку».
Помню, как раздувал я ноздри, впитывая в себя дневной воздух, когда однажды в воскресенье попал на картинную выставку! Нам (мне и Мандельштаму) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в «Собаке», что нет иной жизни, иных интересов — чем «Собачьи»! К нашей чести надо сказать, что мы сами чувствовали эту опасность. То есть опасность того, что в наших мозгах укоренится эта аберрация “мировоззрения”».
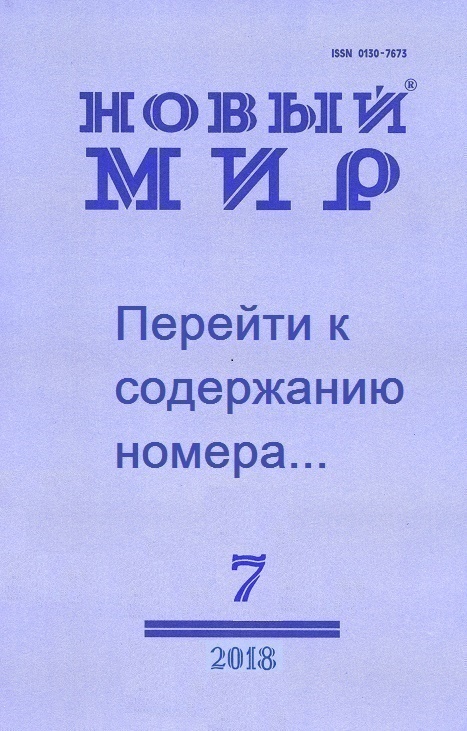
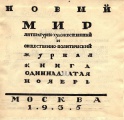



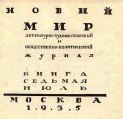

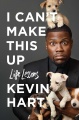
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев