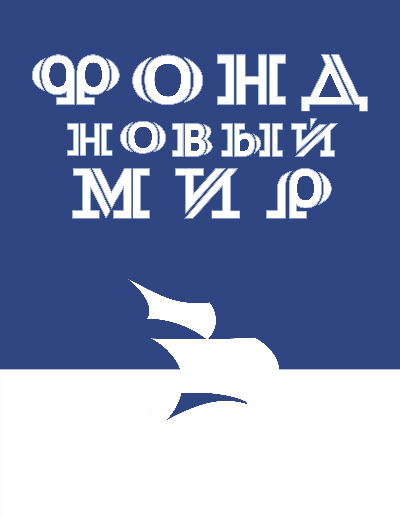Этот материал не о фильме Серебренникова «Лето», но сначала был он. «Лето» я хотел посмотреть, будучи полный надежд, как бывший участник недолго существовавшей в 1980-х, шикарно поскандалившей в своем единственном концерте в МГУ на Охотном Ряду группы «Записки Бакунина», ровесник и непосредственный участник событий фильма, неплохо знавший и «систему» и тусовавшийся где-то рядом с участниками фильма.
Выбор редакции
Проекты
Рэй Избранное
Снова - снов обрывки. Словно... Избранное
* * *
Снова - снов обрывки. Словно
От узла лишь кончик словлен
Слов, читающихся справа..
Разруби условно, право
Слово! Может, развязать
Это? Клочьями основа, -
Что-то где-то... Как дословно,
Связно сны как рассказать?
В мягкой тине, в Палестине,
Справа - от конца к причине -
От «аминя» к «присно» с «ныне»
Тебе, сыне, здесь читать.
Меня зовут Эрвин Избранное
Моя бабка… А, впрочем, при чем тут моя бабка, дело о моем отце. Да, именно - об отце. Я недавно узнал о нем что-то совсем новое.
За окном проносятся желтые поля, липы и пестрые в осенних тенях палисадники, а новое об отце я узнал на прошлой неделе, когда мы встречались с сестрой в Виттенберге. Ева рассказала мне новое об отце в маленьком пивном садике ресторана. Я не помню, как он назывался, он был весь в пятнах света.
Россия – Испания. Сто лет назад Избранное
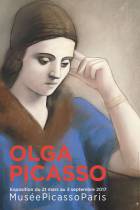
Русская девушка влюбилась в молодого испанца. Причём, он не знаменитый футболист и даже не болельщик. Дело происходило сто лет назад. Времена тогда были очень похожи на нынешние – в мире царила свободная любовь. Кто с кем хочет и когда хочет. В России Александра Коллонтай провозгласила, что женщина должна быть свободной в своём сексуальном поведении, и доказывала это личным примером. Попавшая на лечение в Швейцарию Елена Дьяконова вышла замуж за французского поэта Поля Элюара. Но ей этого показалось явно недостаточно, и она пригласила «за компанию» еще и немецкого художника Макса Эрнста. Они начали жить втроем одной семьёй.
20.10.2019
часть четвёртая
Неподготовленному читателю, не знакомому с жанром танкеток, на первых порах что-то может показаться непонятным. А что вы хотите? Можно ли без подготовки понять химическую или математическую формулу? Но не буду пугать, здесь математика простая: всего шесть слогов, всего две строчки. Как говорится, "... и всё стихотворенье"! Но... В том-то и суть, чтобы в этой сверхкраткой миниатюре суметь передать авторскую мысль. Удаётся это далеко не каждому. Но у Владимира Ерошина большой жизненный опыт, тонкий и добрый юмор. Всё это позволяет ему отобразить окружающую действительность в таких ёмких миниатюрах.
Для чтения и восприятия танкеток нужна не скачка глазами по строчкам, а вдумчивое погружение, может даже медитация: "всплески слов / вздохи строк"... Каждые две строки – это отдельное произведение. Так сказать, пролог и эпилог. А что там между ними сказал автор? Чтобы это понять, надо ещё постараться напрячься самому. Как бы немного стать соавтором произведения. А уловив «спрятавшуюся» мысль, вы почувствуете радость сотворчества.
Наверняка из предложенных в этой книге танкеток каждый найдёт для себя "две строки / годности". Что-то придётся вам по душе, вызовет приятные чувства, улыбку, останется в памяти. Они как осенние листья упадут к вашим ногам. Каждый лист как маленький отдельный пазл большой прекрасной картины. Попробуйте собрать их. И тогда из отдельных пазлов-танкеток у вас сложится цельная картина понимания этого жанра поэтической миниатюры, чувств и настроений автора. "Осень / бледнеет тень". Самое время остановиться и осмотреться.
(Из предисловия Владимира Лашина к книге В.Ерошина «Осень. Дзен вопросов»).
*
всплески слов
вздохи строк
*
печатать
или в печь
*
недолив
наива
*
шрам неба
молния
*
вдох света
выдох тьмы
*
любовь зла
уползла
*
жил в долг
долгожитель
*
пуд ума
грамм счастья
*
к зеркалу
с мужеством
*
не спалось
шаг в вечность
*
две строки
годности
*
радужка
цвет мыслей
*
два счастья
в один крик
*
дзюдо
с шахматистом
*
звезда чирк
в обморок
*
на Марс
с земляникой
*
вход в душу
логин код
*
в рану
соль по вкусу
*
рецепт дня
смех до слёз
*
в пятнашки
со счастьем
*
чертёж
ёж с похмелья
*
ложь внутри
сложности
*
меценат
украдкой
*
кактус
лист-пессимист
*
осень
бледнеет тень
*
море
отпуск грехов
~ ~ ~
29.09.2019
часть вторая
Битанкетки* и перфотанкетки
Не успев окрепнуть, танкетки "оперились" новой твёрдой формой – битанкетками. Вот что пишет, представляя их, прародитель танкеток поэт А.Верницкий:
«Битанкетки являются формой с фиксированным числом слогов - 12, по сравнению с 17 в в хокку. Поэтому имеет смысл говорить о битанкетках как о малой стихотворной форме, параллельной хокку и представляющей собой альтернативу хокку. Поэты, пишущие битанкетки, обнаружили, что в этой форме заключены новые выразительные художественные возможности, которых нет у хокку. Поэтому сейчас битанкетки начинают успешно конкурировать с хокку в качестве стандартной твёрдой формы для миниатюр.
… Битанкетка, как подсказывает название - это текст из двух строф, каждая из которых является танкеткой. Важно понимать, что битанкетка не является просто "длинной танкеткой"; в битанкетке, по сравнению с танкеткой, добавляется новое, второе измерение, а именно, не только каждая строка в битанкетке соотносится с другой строкой своей танкетки, но и каждая из двух танкеток соотносится с другой танкеткой.
… По сравнению с хокку битанкетки имеют примерно такую же длину, но гораздо более богатую строфическую и метрическую структуру, которая позволяет писать намного более разнообразные и интересные тексты».
Утверждаясь своей твёрдой формой в твёрдости литературной среды, битанкетки стали "терять" по одной, а то и по две строки-"пера". Их стали называть перфотанкетками. Требований и ожиданий не уменьшилось, а вот загадочной недосказанности добавилось. Впрочем, судите сами.
битанкетки
**
норма
триколорна
любовь
запах снега
звук волны
вкус костра
**
скачки
на муравьях
мираж
и обратно
**
некогда
любила
да любить
некогда
**
сохла
по Щёчину
вышла
за Трещина
**
приму ген
гения
но без
гениталий
**
миллиард
очередь
нолей
к единичке
**
козёл
капуста волк
капуста
волк козёл
**
персик
от перхоти
шоколад
от шока
**
мужчин
с головы до
женщин
с ног до голо
**
в Таиланд
стайками
с тайками
оттаить
**
тайна
достоинства
достойна
таинства
**
каждый
мелкий дождик
правнучек
Потопа
**
не суди
по друзьям
вспомни
про Иуду
**
голова
на плечах
лицо
на плечиках
**
начало
взгляд Слово
конец
отсчёт Цифра
**
сажали
ООО
взошли
три шестёрки
**
дымок
Отечества
горчун
и бедокур
**
посеял
вечное
выросла
танкетка
перфотанкетки
<>
загадка
триколор
белочуб
синеок
краснонос
.. .. ..
<>
приди
но опоздай
.. ..
помечтаю
<>
с собой
наедине
.. ..
уже двое
<>
как много
которых
лучше б не
.. .. ..
<>
.. ..
отказала
но как
и какая
<>
любовь зла
.. .. ..
козлы
пользуются
<>
невинность
Евина
вина
.. .. .. ..
<>
поэт
откройте рот
.. ..
скажите Я
~ ~ ~
о мультитанкетках (по три танкетки и более в цикле) в следующей части
22.09.2019
часть первая
Строгая форма вольного содержания*
Танкетке больше 12 лет. Мне посчастливилось встретиться с ней около 10 лет назад. Вспыхнула любовь с первого взгляда. Позже я понял, чем привлекли меня танкетки. С детства я метался между физикой и лирикой, прагматизмом и романтизмом, пытаясь подружить в себе сумбурность со структурностью мыслей и речи. И тут такая поэтическая миниатюра. Мои инженерный мозг и песенная душа почувствовали каждый своё, родное. Краткость и ёмкость, свобода содержания и жёсткость формы, точный расчёт и многослойность авторских намёков, отсылок, странных (бессмысленных?) образов, лиризм природы и расслабленный юмор. В общем, ажур арматур, простор и дисциплина в одном флаконе.
Итак, танкетка. Такое серьёзно-несерьёзное название дал ей её изобретатель поэт Алексей Верницкий, который так определяет место танкетки в литературе: «Если хайку в литературе занимают то же место, что шахматы в спорте, то можно сказать, что танкетки по сравнению с хайку – это то же, что шашки по сравнению с шахматами. Правила шашек проще, и партия длится меньше времени, однако принцип этой игры построен на той же логике, что и шахматы. Так же и танкетки короче хайку, но принцип написания танкеток основан на том же сочетании медитации и ритуала, что и у хайку»**.
«Этот жанр способен проявить тончайшие виды остроумия, соединяя сразу несколько приёмов создания пуанта…Пуант в танкетке как бы отправляет читателя в путешествие по ландшафту меняющихся смыслов. Из зерна миниатюрного стихотворения может разрастаться целый мир в имагинации читателя, побуждённой пуантом. Таким образом, именно пуант осуществляет главную задачу, поставленную А.Верницким перед новоизобретённым жанром: осуществить поэтическую форму медитации»***.
А вот что писал поэт В.А.Губайловский о жанре поэтической миниатюры, включая танкетку: «Поэтическая миниатюра как жанр не находится полностью за границей эстетической нейтральности, она ещё не стала фактом искусства, ещё остается в поле эстетически неосвоенной реальности. И в этом ее безусловное преимущество. Она бьёт в упор, она обращена как реплика частного лица частному же лицу, а не как поэтическое послание ещё неродившемуся собеседнику…
Жанр поэтической миниатюры — это полоса прибоя, которым поэтический океан надвигается на эстетически неосвоенную действительность, это — живая, дышащая бахрома поэзии. Это бесчисленные щупальца, которыми она приникает и осязает сегодняшнюю действительность. То, что появляются замечательно точные и глубокие поэтические миниатюры, подтверждает: процесс развития поэзии не остановился. Она жива и пробует новые формы, перехлёстывая через определённые самой себе края»****.
* – Из предисловия (2015г.) автора к книге танкеток «Весна. Сезон монад», 2-е издание, СПб.: Т/О «Неформат», 2017
** –https://26.netslova.ru/Teoria_Tanketki2
*** –Эмилия Ткаченко. Калейдоскоп в стихах. К поэтике пуанта в танкетке - "Имидж, диалог, эксперимент - поля современной русской поэзии" (Хенрике Шталь / Марион Рутц (Ред.)), "Verlag Otto Sagner", München-Berlin-Washington/D.C., 2013
**** – Журнал поэзии «Арион», № 4, 2003
*
две строки
как губы
*
закат
право Солнца
*
берег
плеск небрежный
*
небо
звёзд мурашки
*
дева
пол но ценность
*
а он
андерталец
*
Роден
нагая мысль
*
крыша
вслед за чулком
*
женщина
с глаз до ой
*
лапша
в наушниках
*
личность
не толпитесь
*
сердце
эхом к слову
*
пряник
маска кнута
*
сон в раю
снится жизнь
*
ангелы
титры сна
*
собачка
сторож букв
*
друзья
крот и страус
*
кукушка
волнуюсь
*
мир скобок
ноль вдвоём
*
пуговка
жизнь в петле
*
ладонь
схема траншей
*
трамвай
как по маслу
*
Дарвин
за Вами хвост
*
к цели
серпантином
*
планы
роман в твиттер
*
мир бос
без танкеток
~ ~ ~
Не понимаю: как это любимый Сирин, живя в довоенном Вавилоне, Берлине, за столько лет, не догадался? Не разгадал простую загадку.
Да и не загадку вовсе, – так, заковыку.
Набоков удивляется (не помню где. В «Даре»?): почему это в еврейских фамилиях всегда слышно англофонное «грин» – Гринблат, Гринберг? Вместо правильного немецкоподданного – Грюнберг.
Добавлю: тогда уж логичнее было бы – полностью по-английски. Какой-нибудь «Гринмаунтин», скажем, в паспорте.

Идёт 1927 год…
Юбилей революции. НЭП на излёте, но ещё харахорится. Создан пресловутый ОСОАВИАХИМ. [«Пресловутый», потому что в СССР про него гуляли сонмы анекдотов.] Просуществовавший 20 лет. После чего передавший полномочия ДОСААФ.
Всё происходящее в советской России — подчинено нацбезопасности. Генсек Сталин, прошедший тюрьмы, 2 революции, подполье; Первую мировую, гражданскую войны; знавший партаппарат как свои пять пальцев, — конечно же, чувствовал приближение войны. Хоть сейчас и не любят об этом говорить, обвиняя в недальновидности.

На следующей неделе исполняется 100 лет со дня убийства царской семьи. В Екатеринбурге пройдет и традиционный фестиваль под названием "Царские дни", и опять-таки традиционный крестный ход на Ганину яму. А мне в связи с этими событиями хотелось бы вспомнить одного незаслуженно забытого историей человека, имеющего самое непосредственное отношение к следствию по расстрелу семьи Романовых.
В последнее время я часто слышу слово «имитация». Мне кажется, что оно почти неизменно употребляется литературными критиками в небрежно скрытом, пренебрежительном тоне. Если негатив насыщен, оттенок смысла скатывается в «подражание», и даже в «фальсификацию»; чуть подобрее критик – имеем «стилизацию», «трибьют» или какое-нибудь «ностальгическое возвращение к традиции». Но в любом варианте, всякое произведение, получившее подобную оценку, как бы заранее дисконтируется, получает статус побочного продукта процесса поисков «настоящего» образца словесности.
1
Это я: приблизив окуляр
к микромиру жгутиков и трещин,
школьные уроки прогулял
ради дня, что не был мне обещан.

Нога разболелась, а тут этот бал… Воланд
Если помните, черту своего земного бытия подвёл под романом «Мастер и Маргарита». Несомненно, я знал, чем всё кончится. Но и в Лене был уверен, — она наверняка доделает, что не успею. И доделала, как известно. Не подвела.
Пару слов о том, как тут всё устроено…
Желательно, разумеется, инкарнироваться лет эдак через 1000. Но скажем, ежели ты был не тривиальным гражданским «пассажиром», а например, общественным деятелем, политиком или писателем, разрешено и раньше: так у нас заведено…
Посему я попросил Всевышнего дать мне шанс воскреснуть вначале XXI в., годам к 20-м. К столетию моего переезда в Первопрестольную.
Сегодня – как в тёплую, тёмную воду – вступаем в ночь на Рождество Ивана Купалы. Йоханана бар Схарьи, кузена (двоюродного брата) назаретского Йешуа.
Предтечи новой, христианской этики.
Неутешительные новости для новоязычников-паганини: связь древнего праздника с солнцеворотом потеряна. Сдвиг – более чем на две недели. Многое слегка сдвинулось за пару тысяч лет.
«Всё смешалось..». «Всё перепуталось..».
Нет, лучше: всё переплелось - в венке на Иванову ночь.
Между ветром и дождем
Лето крутит руль,
Смесь апреля с сентябрем -
Питерский июль;
На мерцающей волне
Звездная слюда:
Крошки света сыплет мне
Финская вода.

Интересно, что немецкая столица прямо-таки усыпана мемориальными досками, — бережно храня исторические символы. Некоторые стёрлись до невероятной степени, что стали чёрными от накипи времён: невозможно прочитать, о чём говорится. Много досок с именами, — нам, русским, незнакомыми. Мировая классика, конечно, представлена в первую очередь.
Так, на Bиттельсбахштрассе, 5 — висит памятная доска Ремарку. Он здесь писал роман «На западном фронте без перемен». Неизвестно только — в какой квартире.
Или, например, Набоков.
На Зэксишештрассе, где он жил в 1922 году, памятного знака нет. На том месте стоит сейчас современное здание. Старый дом разрушен войной.
Но зато есть на Несторштрассе. И доску установил не город, а хозяин местной пивнушки, — выяснив, что этажом выше знаменитый Набоков сочинял «Лолиту».
Американскую же «Лолиту» (1962) Стэнли Кубрика хозяин, разумеется, смотрел. [Есть ещё прекрасная английская версия «Лолиты» 1997 г., с волшебной муз. Морриконе, — авт.] Правда, кельнер её вовсе не читал. Но не суть. Приступим…
1
Все мы рождаемся из одного и умираем в другое.
Посередине лежит естество, темное, как Бологое.
Эта, по сути, бескрайняя плоть мало изучена нами,
но языком продолжает молоть и награждать именами
новые виды безумных затей, очередных заблуждений
там, где земля не болит у людей в качестве отнятой тени.
Там человек постоит пять минут на берегу ойкумены
и продолжает бессмысленно гнуть линию автозамены.
Сага
Как Имира мозги, витиеваты бредущие по небу облака,
рука моя к земле чужой прижата и чувствует: пульсирует река
от рыб, центростремящихся на нерест, как викингов драккары на Руан…
Закат окрасил мухоморный берег и медленно сползающий туман
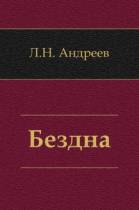
Начнём издалека. С Мопассана. Точнее, с Толстого, коему в 1881 г. Тургенев привёз новую книгу «Заведение Телье». Таким образом заочно познакомив их друг с другом: Гюи с Лео.
Толстой, в свою очередь, книжку прочитал, чтобы не обидеть Ваню, и… забыл. Отметив, несмотря на вульгарность, некую талантливость «весёлого» француза.
Вернулся же Толстой к Мопассану через 2 года. Когда у того вышел роман «Жизнь». После чего Лев Николаевич стал пристально следить за автором, чью «Жизнь» вполне обоснованно соотнёс с «Отверженными» Гюго. Определив Мопассана, и по праву, в первые ряды современной романистики.
Работал над переводами, помогал публиковать в России, всячески продвигал: продюсировал.
— Что ты теперь чувствуешь? – спросил Поллукс.
— Я по-прежнему думаю, что это я, - сказал Норман.
— Жизнь, - сказал Поллукс, поправляя пробирку с синей жидкостью в приборе на столе. Он сверился с блокнотом:
— Ты не начал чувствовать себя палкой?
— Нет, - сказал Норман, - Мне безразличен носитель, который ты выбрал. Я был и остаюсь Норманом.
— Память, - Поллукс сделал отметку в блокноте, - По мере накопления опыта, ты будешь все больше чувствовать себя палкой.
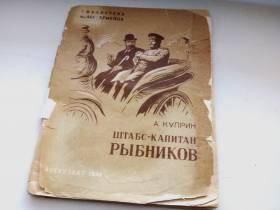
Спад промышленного производства. Денежная система в коллапсе. Цены растут невообразимо. Военные неудачи. Явно назревшая необходимость реформирования законодательной власти. Низкий уровень жизни, повальная бедность! Повсеместный зажим гражданских прав. При декларируемых октябрьским Манифестом 1905 г. свободе слова, СМИ, неприкосновенности личности — творится натуральный отлов инакомыслящих. Вплоть до беспредела, насилия, вплоть до исчезновения последних. Глобальная шпиономания, слежка, слежка…
Кроме того, Европа стоит на пороге больших экономических пертурбаций. Связанных с появлением там дешёвого американского зерна. Что неизменно вело Империю на край гибели.
Революция кончилась… ничем. Точнее, наряду со многими значимыми событиями, — в том числе беспрецедентным ростом золотого запаса, — оставшись в анналах памяти лишь разочарованием и долгим десятилетием ожидания перемен. В дальнейшем превзошедших по силе воздействия всё, что свершалось в мировой истории до того.
Лето. Вечер, но теплынь.
Запах – мёд. Всё невозможно
Ощутить, не то что… Блин!,
Как легко идти порожним.
Дворик. Млечный Путь. Всегда –
Праздника, пластинки, чуда!
Цокот. Каблучки. Куда?
Окна настежь. Смех. Откуда?
Что – котов кругом!. Ничё.
Туфли. Клейкий лист прилип.
Темень. Ночь. Июнь. Ещё.
Сладкий клей сочится с лип.
1994
1
Вчера был очень сильный ветер.
Дождавшись скорости предельной,
я крутанул какой-то вентиль
в его котельной
и ветер стих.
И вот вам стих.
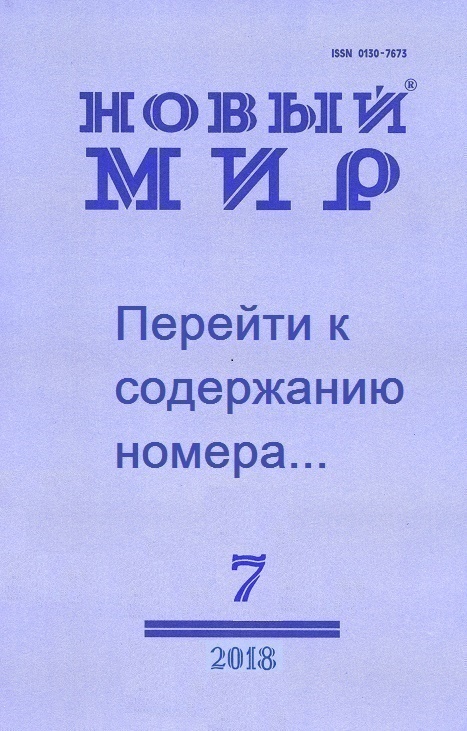
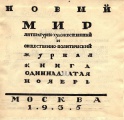



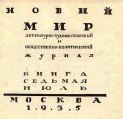

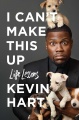
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев