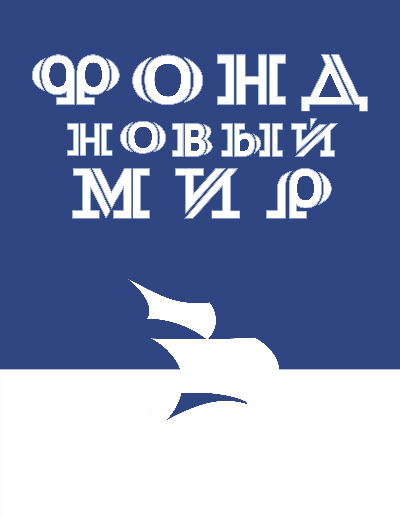Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
Он был печален, имел странные предчувствия
15 января 1795 года родился А. С. Грибоедов
Он молод. Силён! Ему всего тридцать. Но сделано и пережито немало. Учёба, странствия, путешествия, посольская служба. Характер Александра Сергеевича последних лет жизни далеко не прост, пессимистичен, неспокоен: «…я нем как гроб! …горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника (И. Паскевича, — авт.) поглощают всё моё внимание. …мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов».
Грузия, дипломатическая работа, Турция, Персия, война с Ираном…
Люди, близко знавшие Грибоедова, испытывали к нему довольно-таки двойственные труднообъяснимые чувства, сходные как с неизменным уважением и пламенным интересом, также и с «непонятным и трудно преодолимым раздражением», — замечал биограф В. Кунин.
Мнения звучали противоположные:
«…видел Грибоедова, — читаем запись в дневнике Н. Муравьёва, кстати, секунданта соперника Г. — однокашника Якубовича, удальца и наездника, «лихой головы», с кем А.С. стрелялся в 1818-м году: — Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой».
Или:
«Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: «Бред поэта, любезный друг!» — «Ты смеёшься, — сказал он, — но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчего же я не успею?» И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль» (С. Бегичев, ближайший приятель Грибоедова).
Или:
«Едва ли он был свободен в своём обращении от некоторого холодного и высокомерного дендизма, который сказывался в спокойном и вызывающем осмеивании собеседника» (С. Андреевский).
И наконец:
«…под суховатой, а часто и желчной сдержанностью, хоронил он глубину чувства, которое не хотело сказываться по пустякам. Зато в достойных случаях проявлял Грибоедов и сильную страсть, и деятельную любовь. Он умел быть и отличным, хоть несколько неуступчивым, дипломатом, и мечтательным музыкантом, и «гражданином кулис», и другом декабристов. Самая история его последней любви и смерти не удалась бы личности заурядной» (В. Ходасевич).
Великолепная, блистательная «политическая» Комедия на злобу дня, запрещённая цензурой и широко разнесённая «на клочья» и разошедшаяся в списках, уже создана. Палитра отзывов запечатлена довольно глубоко и ярко: от «мольеровской мизантропии» и «лезгинской» подражательности — до «грома, шума, восхищения», честного приятия драматического поражения патриархом-архаистом Шаховским. И вплоть до пушкинского признания в авторе «Горя от ума» черт истинно комического гения. К тому же необыкновенным образом обогатившая простую разговорную речь. Обратив «мильон в гривенники», испестрив грибоедовскими поговорками-прибаутками перо, филиппику, тирады, слог, — вдобавок «истаскав комедию до пресыщения» (Гончаров).
Все капитальные, симптоматичные, точнее, стратегические вопросы заданы...
На некоторые из них представлены вразумительные и тонкие, тончайшие ответы. Давшие мощный толчок следующим поколениям «либералистов»-Чацких, опять и опять признаваемых сумасшедшими властью новых фамусовых, «грабительством богатых».
И впрямь с ума сойдёшь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их…
Невзирая на публицистическое молчание, видевший главное произведение прожитой жизни и всех «впечатлений бытия» лишь на любительской сцене, внутренне он полон творческих планов.
Так, имелась выстраданная задумка трагедии, отталкивающейся от событий 1812 года, — некое продолжение обличения дворян-«полуевропейцев». С той разницей, что на сцене должен появиться крепостной народ («сам себе преданный, — что бы он мог произвести?!» — с восхищением спрашивал Г.). Воочию предстанут обычаи и пристрастия русского крестьянства. Возникнут-взрастут национальная гордость и патриотизм.
Где драматург жаждал выйти, вырваться из-за несколько зауженных светских рамок шекспировского тупика «Горя от ума». Что, конечно же, всецело оправдано действием, происходящим в XVIII в. Выйти в макрокосм современных вызовов: Наполеон, Аракчеев, Александр I, зачатки декабризма: «…где, укажите нам, отечества отцы».
Хотел уменьшить «пустозвонства» и досужих толков, осторожно ступая в пространство тонких сфер по-гончаровски разочарованных «паразитов» — Онегиных, Печориных, толстых господ-романтиков: «Грибоедов и в этом отношении принёс мне величайшую пользу: он заставил меня почувствовать, как всё это смешно, как недостойно истинного мужа…» — благодарил Кюхельбекер Грибоедова за умение показать несостоятельность и нелепую карикатурность модного в 1820-х гг. барокко барского байронического скептицизма.
«Далеко от своих смерть близкую обрёл…» — будто заранее предвидел Г. в ранней, не всегда удачной лирике («Эпитафия доктору Кастальди»), собственное трагически-зверское «убийство чернью» в тейеранском (тегеранском) русском посольском доме.
К слову, одним из первых, кто дал высокую посмертную оценку дипломатической, подвижнической деятельности Грибоедова — упомянутый выше знаменитый военачальник Николай Муравьёв-Карский. «Декабрист без декабря», впоследствии неправедно забытый, до конца дней поддерживавший ссыльных сибирских и кавказских декабристов-отщепенцев: «Грибоедов в Персии был совершенно на своём месте… он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию… не найдётся, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места», — отмечал Муравьёв как всегда ответственно и пунктуально. Но не совсем литературно.
Насильственную смерть Грибоедова, равно позднее ужасную гибель Пушкина и Лермонтова, благородный императорский двор воспринял благосклонно.
Народу же, друзьям-литераторам — это было сродни страшному наводнению 24-го года, погребшему под буйными волнами стихии пол-Петербурга. Точно под гнётом парадов, муштры, ботфортов Бенкендорфа, звона кандалов и новой реакции «неронов» гибли только-только зародившиеся счастливые зарницы беспримерного русского свободомыслия.
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки…
Я. Полонский
*
«…несколько грузин сопровождали арбу.
— Откуда вы? — спросил я их.
— Из Тегерана.
— Что вы везёте?
— Грибоеда.
Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален, и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Вы ещё не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдёт до ножей». Пушкин. «Путешествие в Арзрум»
Из показаний Бестужева: «С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России».
«Какой мир! Кем населён! И какая дурацкая его история». Грибоедов
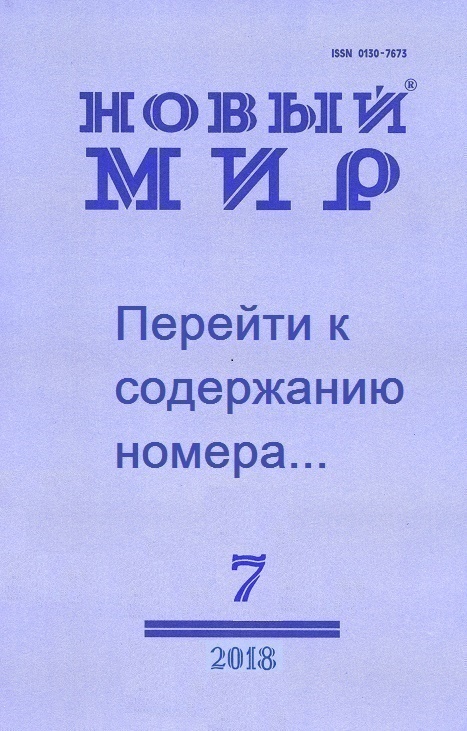
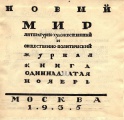



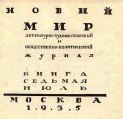

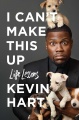
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев