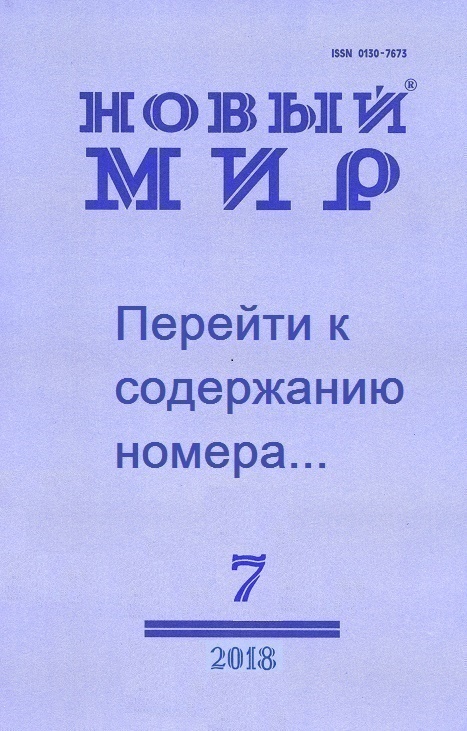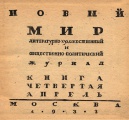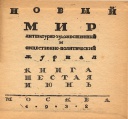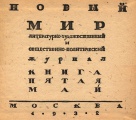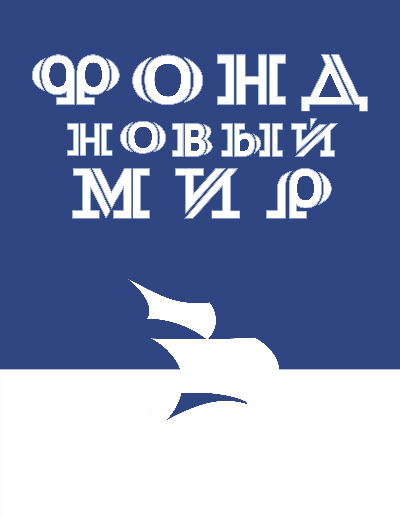Самое популярное
Игорь Фунт
Секс, религия, рок-н-ролл! Вампилову 80
К 80-летию со дня рождения А.Вампилова, классика русской драматургии. Также к 45-летию со дня его трагической гибели.
Слабость не порок, а стихия общественной жизни. Гончаров
Наряду с прославленными русскими советскими «деревенщиками» шестидесятых – Абрамов, Залыгин, Белов, Можаев, ровесник-однокурсник Распутин – Вампилов обрисовывал жизнь как непредвзятый честный художник. (Несомненно зримо и влияние на В. «горожанина» Трифонова.)
Сам он не без юмора изъяснялся об этом так: «Все лучшие известные писатели знамениты тем, что говорили правду. Ни больше ни меньше – только правду. В XX в. этого достаточно для того, чтобы прославиться. Ложь стала естественной, как воздух. Правда сделалась исключительной, парадоксальной, остроумной, таинственной, поэтической, из ряда вон выходящей. Говорите правду, и вы будете оригинальны».
Хотя гениальность его в другом.
В том, что он не даёт готовых рецептов, а по-бердяевски указывает путь зрителю. Ведь если человек пребывает хотя бы в поисках смысла, у него уже есть шанс на спасение. Ибо сам Путь – и есть истина. И есть спасение. А напряжённые поиски смыслов жизни – уже есть некое его нахождение.
Да, многое у него получалось бессознательно, даже по-хулигански бессознательно. Попадая в цель эмпирически, – что ценно! – ибо правдивее.
Сценическое вампиловское «хулиганство» доподлинно было струёй свежего воздуха на подмостках патриархального, в общем-то, театра. Критика относит это веяние к «Разбойнику» К.Чапека (1920), выдержавшему впоследствии множество переизданий, – тематически и сюжетно очень близкого по духу пьесам Вампилова.
Его герои не поддакивали власти, не поддерживали официальный курс, не участвовали в косметическом ремонте закулисья. Не искали они и культурных, более того, неких экологических ниш для почётного конформизма из «оркестровой ямы». Они тривиально «отворачивались от системы» (Б.Сушков). Уходя на рядовую работу. Сохраняя за собой моральную свободу – свободу выглядеть независимо, гордо, отрицая корысть и подлость. Как отрицал их молодой перспективный учёный Колесов из «Прощания в июне» (1964 г. Опубл. в 1966-м) – первого драматургического опыта Вампилова. Одновременно становясь угрозой налаженному укладу жизни. Где всё держится на компромиссе, личном интересе и связях. На брежневском кумовстве: ты мне – я тебе!
Но и Колесова чуть не сломала система… (Вспоминаются слова о. Павла Флоренского: «Вера в систему есть суеверие».)
Он отказывается от любимой девушки во имя карьеры. И только в финале поднимается до того подлинного чапековского «хулиганства», возвращаясь на круги своя, отвергая «взятку», – диплом, заработанный ценой предательства. Вернув его несостоявшемуся учёному, карьеристу Репникову.
Провинция, провинциалы, «маленькие» большие люди Вампилова, их утрированные страсти… Что это? Выдумка, фарс, реальность?
Разумеется, фарс! – можно ответить. Только фарс с длиннющим знаком минус. На театральных, кинематографических подмостках положительные герои неизменно присутствовали. Единственно были они уж очень положительными – именно что «правильными» по-советски. Где-то критикуя, где-то подначивая, но не так чтобы очень: «Дураки-то и при новом режиме есть», – незлобно подъёживает Иван Саввич, председатель колхоза из знаменитого фильма 60-х «Дело было в Пенькове». Идеологически работая со зрителем в плоскости «добро – зло», «ненависть – любовь», «плохо – хорошо».
В свою очередь, Вампилов сталкивает в пьесах целые миры, работающие на подсознании героев, на внутренних душевных склонностях. Создавая в заданных жанровых рамках объёмную фигуру пристрастий, состоящую из целой серии конфликтов. [Непонятная фурцевской номенклатуре от минкульта вампиловская «многоликость» и была нещадно ругана критикой.]
Это и взаимопроникновение характеров – от комического до трогательного. И антагонизм представлений: от серьёзных дяденек, умеющих жить, до «блаженных», жить не умеющих вовсе. Вплоть до явного шалопайства – некоего хиппарского, растаманского разгильдяйства, – как образа жизни. Жизни в стиле регги – по заветам «пророка»-Марли.
Действо колышется на тонкой грани социальных коллизий, тлеющих на заднем плане под неяркими декорациями предместья на периферии – задворках «Империи зла». И именно Вампилов предвосхитил мощную, дышащую полной грудью драматургию новой волны. После него ставящую человеческий Конфликт с заглавной буквы – неприкрыто. Уже в ипостасях резко обнажённых.
Потому как новаторски (и не исключено, что опять-таки бессознательно по-хулигански) дал волю своим выдуманным персонажам. Кои вмиг начали сопротивляться автору! – не желая следовать его социологизированной педагогике. Считая её наивной. Игнорирующей грубую реальность. Апеллирующей лишь к высшим духовным ценностям. Которые для них, новых героев, – сплошь бессодержательная абстракция.
И в этом – первопроходство Вампилова. И этим – он вошёл в пантеон признанных классиков русской драматургии. Дав толчок постмодернистскому этапу последней.
Не секрет – Вампилов высказывается устами героев произведений. И уж тем более не секрет, что сверхострые социальные конфликты он прикрывает изящной, – берущей живительные истоки у Чехова, – иронией. По коей созданы сонмы диссертаций. Также как по вампиловской стилистической «загадочности», «неуловимости», «парадоксальности». [В частности диссертация к.фил.н. О.Юрченко: «Ирония в художественном мире Вампилова».]
В принципе, невзирая на склонность к самоиронии, некой анекдотичности повествования, герои Трифонова, Вампилова, Шукшина, конечно же, лица трагические: «И у Шукшина, и у Вампилова ирония рождается оттого, что не могут обрести уверенность ни их герои, ни сами авторы» (А.Бочаров).
Окутанные тургеневским туманом экзистенциальных решений и христианскими заветами Достоевского – с его духовными исканиями путей добра, служения добру, – им свойственны ахматовское самопожертвование, поиск красоты, любви, донкихотовских идеалов, пушкинского рыцарства, шукшинского надрыва… Они борются с воинствующим безумием материального мира. Синхронно с его несовершенством, его ложью, неравенством, несправедливостью.
Покушение Зилова из «Утиной охоты» на собственную жизнь – один из вариантов выхода из бескрайнего духовного кризиса. Да и вечного кризиса среднего возраста, почему нет?
Ох уж этот Зилов... Сколько критических копий сломано в полемиках вокруг сей персоны – от резкого неприятия и убийственных суждений до попыток его реабилитации. Вампилов и тут попал прямо в цель – в самое сердце публики!
Эти «странности» Зилова… Небрежность, скука, цинизм. Одномоментно свобода, бескорыстие, благородство, – покрытые очевидной незаурядностью, выделяющей его из толпы. Причём в эпоху нарождающейся застойной уравниловки! – вдогон на глазах вянущей «оттепели»…
Из всего им обожаемого: женщины, друзья, карьера, веселье – по-настоящему ценит лишь охоту. На которой ни разу не убил ни одной утки. Переживая на охоте непосредственно эстетическую радость бытия. Противопоставляя её устоявшимся закостенелым нормам развитого социализма – неистребимому «ковёрному» мещанству с польскими гарнитурами, «подковёрному» карьеризму, грубому эгоизму, попранию человеческого достоинства. Бесспорно, за его фразами и поступками виден Вампилов.
В его ярчайших пьесах дан синтез черт – хара́ктерный срез целой эпохи. Поколенческий срез советских людей. Выросших и созревших в период послевоенного глобально-материального дефицита. Переросшего затем в «тяжелейшую форму и нравственного, духовного дефицита» (Б.Сушков): «Загубить молодость в очередях», – черкнул как-то Вампилов в дневничке.
Знаете, я прекрасно помню ту сладкую атмосферу всеобщего «счастья».
Да, беспечное детство, весёлая юность накладывают свой радужный отпечаток. Но тем не менее, что-то мне тогда подсказывало какую-то явную неправильность, что ли. И разобраться в этой «неправильности» молодёжи помогала, вне сомнения, литература. Разрешённая литература, официоз. Также запрещённая, забугорная, из-под полы. Александр Вампилов – как луч света в этом списке. Потому что не числился в запрещённых. Но и санкционирован, увы, особо не был. Корпел в основном попервости в стол.
Культовым же он станет буквально через год после катастрофически нелепой смерти…
Не будучи диссидентом в полном значении этого слова, на сцену Вампилов продирался с колоссальным трудом: «Да, меня не ставят, – пенял он в 1970-х завлиту питерского БДТ Дине Шварц, – но это пока. Будут ставить, куда они денутся. Замыслов у меня много, я должен жить долго-долго…»
Однажды девчонки с театрального отделения попросили юного меня сыграть зрелого мужчину, отца Валентины – Фёдора Помигалова – из пьесы «Прошлым летом в Чулимске». У них на курсе просто не было парней! – тех, которые были, забрали в армию.
Ну, сценка крошечная, я и дал добро: «А где твои женихи?.. Ну где? Эти, что тут крутятся, это не женихи, я тебя в сотый раз предупреждаю. Не дай бог, с которым увижу – из этих... Женихов не вижу. Это – первый. Один. И свататься пришёл. Сам пришёл, по чести, по-хорошему. И что? А я уважаю. Мать твоя, покойница, меня на пятнадцать лет была моложе. И что?..» – Вот смеху-то огрёб, скажу я вам!
Слишком молод был для той роли. Но главное, эта мизансцена дала драгоценную возможность познакомиться с Вампиловым – лицезреть в нём, в его произведениях себя. И найти ответы на мучавшие тогда вопросы.
Я познал в Вампилове неприкрытое зазеркалье скрытых доселе смыслов. Эта «объёмная фигура пристрастий» вобрала в себя судьбы даже не одного – нескольких поколений. Без искажений. Без карикатурного увеличения либо уменьшения характеров персонажей. Вглядываясь в их отражения, смеясь местами, ты понимаешь, мол, смех-то оказывается – сквозь слёзы.
Согласитесь, дорогие господа-товарищи, как же это по-советски! Жить в долгом мучительном ожидании обязательно лучшей жизни.
И тебе уже двадцать пять, тридцать, сорок… А новая жизнь всё не приходит и не приходит. (А сегодня разве не так?) А юный организм бурлит энергией, синерги́ей эмоций. Требует немедленной реализации. Требует серьёзного применения. Этот «здоровый» цинизм Зилова, его бесцеремонность и наглость – следствие элементарной нереализованности. Как просто!
Проблема Зилова – проблема всего огромного СССР. Его молодой поросли. Стремящейся, думающей. Его приверженностей, слабостей, надежд: ведь «слабость не порок», – звучит в гончаровском эпиграфе к статье.
Превосходно помню междусобойчики – беседы за чашкой чая. Когда мои вдруг «прозревшие» повзрослевшие друзья-комсомольцы утверждали, дескать, только вступление в партию даст шанс зажить, задышать в полную силу. Даст потенциал прорваться, съездить в загранку, купить квартиру, машину, приобрести нормальную «порядочную» одежду наконец!
Работа, зарплата, производственные отношения, семья. Супружеский долг, превратившийся во что-то убогое, постыдное, – уж лучше остаться добрыми друзьями.
Мир, лишённый прогресса. Мир без грядущего завтра – вот ответ Вампилова на мои нескончаемые «почему?». Тогда это слышалось очень важным императивом. Поскольку найти реальную духовную, душевную «святыню» в СССР было практически невозможно.
Что делать? Как жить? Как увидеть мир? Комсомол, КПСС – обман, мышеловка, капкан? Путь в никуда? Или реальный трамплин? Одни вопросы…
Религия – под запретом. (Отца и деда В. расстреляли. Первого за якобы панмонголизм. Второго – за якобы пропаганду православия.) Секс – под запретом. Рок-н-ролл – под запретом. Что, кстати, и послужило придумке заголовка к блогу: «Секс, религия, рок-н-ролл!» [Правда, этимологически эта фраза выглядит как «Sex, Drugs & Rock-n-Roll» – по названию песни британского музыканта Иэна Дьюри, вышедшей в 1977 году. И группы Blockheads. Но это к слову...]
И что интересно, то были «вечные вопросы» не только нашего отечественного извода. Планетарные.
И тут Вампилов опять попал – влился в общемировой тренд рефлексии «потерянного» послевоенного поколения, далее «детей цветов» 1960 – 70-х (названий много): «Спасите наши души, мы гибнем от удушья!!» – надсадно хрипел Высоцкий, крича тысячами магнитофонов из окон бесконечных хрущёвок.
Да, Вампилов – драматург вечных вопросов, с виду лежащих на поверхности…
Это и поиск настоящих, не поддельных (деньги-связи-джинсы) святынь – в контексте святости дела, которому служишь. Тут же возникает вопрос поиска святыни в браке: жена должна, должна(!) быть соратницей-подругой в действительно святом деле – семейном жизнетворческом труде. И семья – именно труд, упорный, тяжёлый.
Это и отношения «дети – родители»: тот же Зилов любит отца как человека, но ненавидит как приспособленца, винтика Системы. Тут и подчинение среде, в которой обитают люди, лицемеря и подстраиваясь. Но…
Вампилов никого не обвиняет. (Иначе бы улетел, как говорится, «недалече» за антисоветскую пропаганду.)
Он объективно изображает людей в обусловленных социально-экономических, политических кондициях. Определяющих личное и общественное. Нужное и ненужное. Важное – неважное.
И эти кондиции, – декламирует он со сцены устами своих героев, – нас не удовлетворяют никоим разом! Необходима коренная ломка не нами установленных регламентов: дабы реально(!), – а не громогласными обещаниями и кумачовыми плакатами, – ускорить движение экономического, духовного прогресса. Несмотря на то что с теле и киноэкранов с утра до вечера возглашалось непрестанное гармоническое развитие личности, интернационализм, гуманизм. И чуть ли не коммунизм за поворотом.