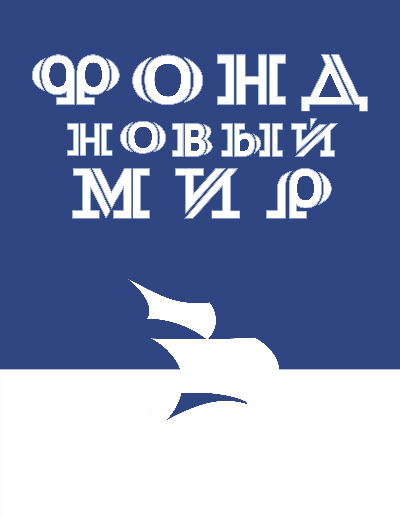Выбор редакции
Проекты
Игорь Фунт
Тебе к лицу ли роль Славянского Мессии…
22 февраля 1821 года родился русский лирический поэт, сатирик и юморист. Один из создателей образа Козьмы Пруткова А. М. Жемчужников. Поэт-гуманист, предвестник Есенина, Рубцова и чеховского смеха. Пару слов к этой дате.
Читатель! разочти вперёд свои депансы. К.Прутков
Начнём издалека… С популярнейшего танго и крайне интересной временно́й коллизии. Потому что связана эта коллизия с незабвенной личностью дорогого героя текста: Алексея Михайловича Жемчужникова, представителя Золотого века русской поэзии.
Однажды в 1923 году, в Польшу, из неудавшихся румынских гастролей прибыл неотразимый и страстный король кафешантанов Александр Вертинский. Неблагонадёжный элемент, — по сведениям НКВД, — недавний эмигрант первой волны.
Вкупе с замечательным аккомпаниатором, бывшим российским подданным Ежи Петербурским (без «г», чем грешат многие издания, — авт.) они создают настоящий непревзойдённый шедевр — шлягер «Журавли».
На стихи Вертинского:
Здесь под небом чужим, я, как гость нежеланный
Средь угрюмых людей, незнакомой земли,
Слышу крики и плач, вижу птиц караваны —
Подлетают, спеша, на ночлег журавли…
У Ежи это не первое стопроцентное попадание в цель: тут и «Танго милонга», и знаменитые «Утомлённые солнцем», и «Синий платочек».
«Журавли» же, в свою очередь, по-настоящему вспыхнули всеми цветами радуги и зрительского признания ближе к 30-м — Германия, вновь румынская Бессарабия, европейские кабаре и пабы.
С неизъяснимой непредсказуемостью авторство музыки Вертинский почему-то приписывал себе. А слова — старому русскому поэту А. Жемчужникову. Тем самым снимая вопросы цензурного порядка (он не был стеснён никакими договорённостями с композитором).
В конце войны отредактированная и всласть переиначенная на всевозможные лады песня (причём «осенние» журавли стали «весенними»), — на трофейных аккордеонах отправляется в СССР. Где была подхвачена всевозможными подпольными и разрешёнными джаз-бандами. Записана-переписана сонмами рентгеновских плёнок. И на десятилетия успешно вошла в кабацкий репертуар.
Текст не раз по-любительски и по идеологическим причинам переделывался («там есть право на труд, там меня понимают» и т.п). Авторство в пластинках даже не указывалось уже…
И только в наши дни появилась искусствоведческая, одномоментно мифологическая версия происхождения «Журавлей». В частности версия Н. Овсянникова.
Вертинский, по доносу посаженный в Бухаресте в тюрьму (1922), с печалью «распятого Христоса» вдруг увидал из-за камерных решёток далёких птиц. Изящно и гордо плывущих в чужом небе. Как же тут было не вспомнить превосходное стихотворение Алексея Михайловича Жемчужникова, — хорошо знакомое беглому советскому артисту, — «Осенние журавли»:
Сквозь вечерний туман, мне, под небом стемневшим,
Слышен крик журавлей, всё ясней и ясней…
Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим,
Из холодной страны, с обнажённых степей.
Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,
Где уж савана ждёт, холодея, земля
И где в голых лесах воет ветер унылый, —
То родимый мой край, то отчизна моя.
К слову добавим, актёр мог бы исполнять номер и на оригинальные стихи Жемчужникова. Но Вертинский не был бы Вертинским, если бы что-то происходило без личного его вмешательства: в поэзию либо музыку произведения. Вот он и сделал, сейчас бы сказали: кавер-версию на классический текст.
…А Жемчужников не был бы Жемчужниковым, не оставшись в памяти потомков прекрасными виршами, бескрайней любовью к родимому краю — «холодеющей» отчизне, и… неуёмным фонтанирующим юмором разумеется. Куда ж без этого: «Я понимаю смех, тот горький смех сквозь слёзы…»
Ведь кто как не он со товарищи мог, надев вицмундиры, за ночь объехать всех петербургских архитекторов с жутким известием об Исаакиевском соборе, внезапно провалившемся под землю! И что утром спозаранку всенепременно надлежит явиться во дворец к императору.
Вообще юношеские шутки братьев Жемчужниковых и иже с ними явились несметными прообразами будущих литературных жемчужин. В основном эмоционально-эпизодического характера — в виде мизансцен и блестящих скетчей.
Тем не менее, в некоем смысле они определили целое эстетическое, поведенческое направление гигантов глобального юмора подобно Чехову.
Наверняка Антон Павлович, работая над «Смертью чиновника», вспоминал историю о том, как кто-то из братьев — в партере театра — специально слоном прошёлся по ноге высокопоставленного сановника. И потом каждый божий день досаждал ему с нелепыми извинениями. Досаждал до тех пор, пока тот не взъярился и не погнал обидчика к чёртовой матери!
А Лев Толстой, обрисовывая неуёмные кутежи Безухова с Курагиным, похохатывал над барахтающимся в Фонтанке цирковым косолапым с привязанным Жемчужниковыми к хребту квартальным — спина к спине: медведь-пароход.
Помните несчастного канючащего Паниковского: «Дай миллион, дай миллион!» — Фантазия Остапа Бендера мало чем отличалась от затеянного братьями Жемчужниковыми ежедневного потешного моциона с министром финансов: «Министр финансов — пружина деятельности!» — раз от разу приподнимая шляпу. Пока последний, вконец выведенный из равновесия, не пошёл с жалобой к государю.
Так и слышится возмущённый возглас Николая I: «Много я видел на своём веку глупостей, но такой ещё никогда не видел!»
Правда, произнесено это не по поводу странной жалобы затюканного напрочь министра. А об одноактной комедии-пасквиле «Фантазия» (1851).
Практически первом российском опыте в жанре драмы абсурда. Авторства упомянутого вначале консервативного новатора, философа-дилетанта Козьмы Пруткова. Совместного детища трёх ро́дных братьев Жемчужниковых и одного двоюродного — А. Толстого: «Ну, батюшка! твоя собачка только похожа на мою; а эта моя, настоящая Фантазия! Прощай! Ты более не нужен ни мне, ни Лизе! Пошёл вон! …А вас, милые дети, я благословляю. Будьте счастливы и благополучны; размножайтесь и любите как себя взаимно, так и своих будущих многочисленных детей, — точно так же, как я люблю свою Фантазию. (Целует моську.) Теперь пойдём домой»...
Комедию — «тщательно спланированный скандал» — закрыли на следующий же день после премьеры. Литераторов-озорников это нисколько не смутило и не удивило. А наоборот, раззадорило.
Средь современности бесцветной
Вступили в связь добро и зло;
И равнодушье незаметно,
Как ночь, нас всех заволокло.
…Иль вдруг родится мысль больная,
Что людям надобна война, —
И рвёмся мы к войне, не зная
Ни почему, ни с кем она.
Автор этих строк Алексей Жемчужников конца XIX в., имманентно, чудесным манером вписывается в эстетическую серединку меж двух могутных вех, от XVIII до XX вв. Где каждый, — от извечных антиподов Тредиаковского с Сумароковым до извечных друзей Пастернака с Ахматовой, — по-своему сопротивлялся вялой бескрылости «шкурного времени».
Он не революционен, — но непримирим. Чрезвычайно лиричен и напевен, — использует оружием насмешку, шутку и сатиру.
Прорываясь вперёд, безжалостно рубит на пути фетовские никчемные лесные ели, завесившие рукавами тропинку. Зашорившие пристальный гражданский взор в ледяном молчании безысходности: «…взгляну ли вокруг — ничего ниоткуда не видно».
Средь «современности бесцветной» он тягостно ищет хоть что-нибудь — хоть какие-то следы прежних смеха и слёз. Священных слов или чувств. «Но пусто! — восклицает великолепный Лев Аннинский: — Ничего не входит в ум, дремлющий средь замёрзшей реальности. Тайны нет… вернее, есть какая-то «белая тайна», непроницаемая и безответная. Напрягаешь слух и ничего не слышишь».
Вот он и стоит безмолвно — пред «грустной картиной зимы», — вспоминая прошлое, о чём-то плача и думая: «О, наши прежние затеи!! О, волей грезившие дни!..» — Кругом ханжество, фальшь. Показуха.
Славный либерал прекраснодушных тургеневских 1840-х. Проклинающий страну, где уж «солнце без силы». Осуждающий богом хранимую державу, безнадёжно и надолго завязшую средь колдобин, рытвин и грязи по бесконечным её нивам, весям, градам.
Поэт, добравшийся до «шлагбаума веков», свято когда-то веривший в родного слова возрождение и исправление нравов. Исступлённо, в опустошении сжимается душой в мыслях о неисправимой «природе человечьей». Вслепую рвущейся в кровавую бойню, не зная ни почему, ни «с кем она»… эта скоро грядущая война всех против всех. И супротив рожна…
Хотели ль мы порядок стройный
От смутных оградить тревог,
Взнуздать мы думали ль порок
И дерзость мысли беспокойной, —
Но в страшный мы вступили бой,
Все средства в помощь призывая,
И по земле своей родной
Прошли как язва моровая!..
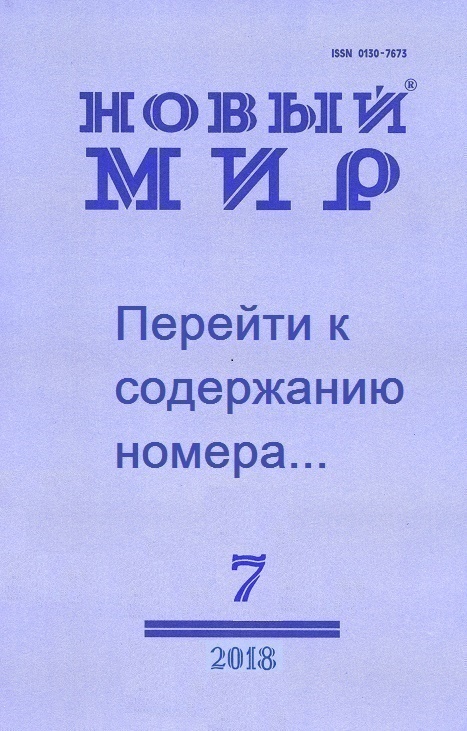
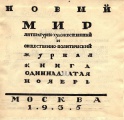



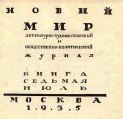

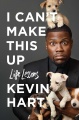
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев