Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о публикациях «Нового мира», 2018, № 3: рассказы Леонида Юзефовича, Сергея Шаргунова, Олега Хафизова, статьи Сергея Эрлиха, Александра Куляпина и Ольги Скубач.
Леонид Юзефович
По явной и любопытной случайности несколько материалов нынешнего номера образовали тематический блок. Хочется даже умозрительный блок овеществить, сказав «многогранник»: тут и метафорическое значение многогранности, и геометрическое – смежности граней этого объемного целого. Три рассказа трех совершенно несхожих и в любом ином контексте несопоставимых авторов – Леонида Юзефовича, Сергея Шаргунова и Олега Хафизова, – и рассказа опять-таки совершенно разных типом письма, эстетикой, самим пониманием литературы (при том что во всех трех присутствует автобиографическое «я») – развивают, по существу, одну тему. Тема эта – самоопределение через память, невозможность уйти от «корней», будь то род или среда, сообщество. И, как следствие, трудное (у первых двух) принятие – своего иррационального обязательства перед чем-то, что существовало до тебя; и этого обязательства, в некий момент истины, – за основу ответа на вопрос «кто я».
Современной представитель ветви баронов фон Унгерн-Штернбергов, всю жизнь ощущавший это родство позорным бременем – слишком много в семейной истории того, что претит, – и всячески его отталкивавший, на пороге смерти принимает себя как еще одного из Унгернов, а бремя принадлежности к ним – как свое; но не успевает отдать долг потомка («Маяк на Хийумаа» Леонида Юзефовича).
Выходец из священнической семьи на похоронах давно не виденного сверстника, потомственного священника, осознает себя плотью от плоти не то что даже духовного сословия, а особой общности поповичей – общности, определившей его нынешнего, сделавшей его самим собой («Поповичи» Сергея Шаргунова).
Олег Хафизов
Наконец, восточная арабеска тройной взаимной вписанности, во-первых, семейного предания – или того, что «автор», очевиднейше не полностью тождественный автору, хотел бы считать таковым, возводя свою фамилию к поэту Хафизу, – то есть истории семейной, во-вторых, истории как исторического факта и, в-третьих, истории как интерпретации исторического факта, производящей его в историческое событие и только тогда дарующей коллективной памяти («Тимур и его дедушка Хафиз» Олега Хафизова). Внезапно отменившееся наступление Тамерлана на Москву, которое современники однозначно объясняли неким страшным сном, приснившимся завоевателю накануне, а русские православные люди и сейчас прежде всего вспоминают как чудо Владимирской иконы Божьей Матери, когда Владычица явилась грозному полководцу во сне, можно объяснить через массу «естественных» и рационалистических гипотез. Однако подлинно историческим объяснением (главное у Хафизова, и это обособляет его текст от двух других, – все же не вопрос об идентичности, о том, что делает меня мною, а вопрос об истории, о том, что делает ее) оказывается то, которого придерживается средневековый человек, – поскольку позволяет подняться на уровень концептуальный, где факт осмысливается, событие осмысляется, где уже не только информация о прошлом, но и мысль о настоящем и будущем.
У Хафизова тема индивидуальной и/или семейной памяти открывает рассказ, а ближе к середине заступает тема памяти для всех, изготовляемой официальными идеологами, того, что в некоторых социологических трактовках называется мифоконструктом, или просто мифом. Смежная грань – эссе (наш многогранник вобрал и худлит, и публицистику) Александра Куляпина и Ольги Скубач «Время героев: подвиг в советской литературе и культуре» («Философия. История. Политика»). В логике рассказа, жанр которого, кстати, означен как предание, «подгонка», придающая стройность тому, что и так уже бытует, живет в стихийном предании, оформляющая его и закрепляющая, не уничижает правды. Правды чуда (а о чуде можно и необходимо поведать стройно), правды посланного свыше сна, правды предсказания, в изображаемые Хафизовым времена безусловной.
С точки зрения авторов эссе, любая канонизированная версия события, к тому же несущая в себе «педагогическую» программу, утверждающая образец поведения, играет на стороне лжи, а не на стороне правды. Миф, как такой образец, тем более миф, прославляющий героическое самопожертвование жертвенно-героическую модель, – всегда лишь инструмент манипуляции.
Сергей Эрлих
В другом эссе под той же рубрикой, «Как помнить будущее? Память, идентичность и этика информационной цивилизации» Сергея Эрлиха, слово «миф» тоже присутствует, вот только стоящее за ним понятие – из иной традиции. Для Куляпина и Скубач миф – ведущая деталь идеологической машины, то есть понятие политическое. Миф искусственен, он кем-то создается и всегда приходит «сверху», а главное, как было сказано, доля лжи перевешивает в нем долю правды. Для Эрлиха миф априори не может быть никем создан, так как приходит не сверху, а свыше, что вовсе не обязательно подразумевает прямое откровение; впрочем, нет нужды апеллировать здесь к Юнгу и в целом общим местам современной антропологии. Итак, создать миф – нонсенс, но не создать нечто на его почве. И такой конструкт, как нация, на взгляд Сергея Эрлиха, необратимо изжил себя в сегодняшнем глобальном мире, вместе с героическим мифом, как его опосредованное порождение. Если Куляпин и Скубач героику и жертвенность принципиально не разводят, то Эрлих оставляет героя миру, делящемуся на «своих» и «чужих», который уже стал вчерашним днем: не потому что все без исключения отказались от этих аппозиций, а потому что не отказываться опасно, как никогда. В наступившем будущем надежду на более справедливый мир, посткапиталистический, гуманный и гуманитарный, Сергей Эрлих связывает тоже с мифом – мифом самопожертвования. Который для него воплощен не в Зое Космодемьянской, а во «Врачах без границ» и растущем повсеместно волонтерском движении. От себя добавлю, что даже и подстроенное, тем паче случайное столкновение под одной обложкой двух столь разных, если не сказать враждебных трактовок 1) мифа, 2) героизма и 3) жертвенности – дорогого стоит.
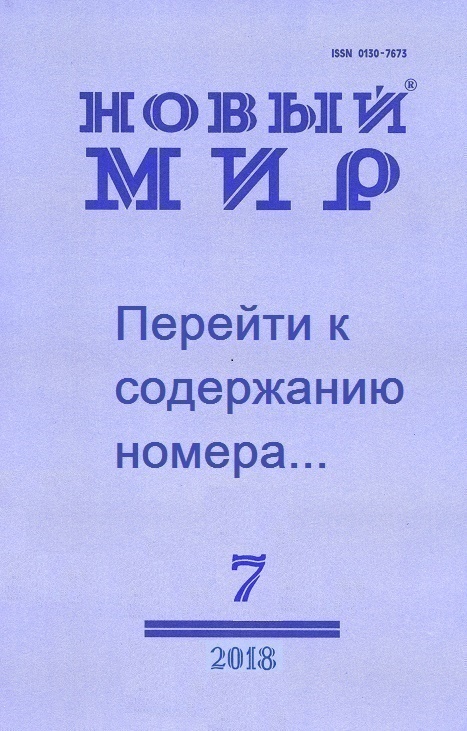







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
