Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о «Новом мире» 2018, № 6: об «альбоме» Георгия Давыдова «Лоция в море чернил», эссе Владимира Варавы «Седьмой день Сизифа», о статье Бориса Орехова и Павла Успенского «Гальванизация автора».
 Георгий Давыдов
Георгий Давыдов
Прозе Георгия Давыдова «Лоция в море чернил», публикуемой в нынешнем номере, очень хочется подарить какое-нибудь неочевидное жанровое определение – например, альбом. Вроде альбома вырезок. Типологически она близка «Золотой розе» Паустовского, однако авторский настрой и, соответственно, тон в корне иные. То, что нам предъявляет автор, можно назвать и собраньем пестрых вырезок на заданную тему, и, привычнее, байками – ни капли уничижительного в этом именовании. Да, по сути, перед нами байки, только не писательские, с их уклоном в сплетню, а литературные. Книжные. Читательские. Писатель – тот, кто пишет романы, повести, рассказы, эссе, читатель – тот, кто читает книгу. Что для автора мир его воображения, его наитеснейше собственный мир, для читателя – мир книги. Книга похищает у автора им созданное. И вручает читателю. Как тот Прометей. Впрочем, ничего близкого вышесказанному у Георгия Давыдова мы не найдем, а найдем любование, понарошку снаружи, со стороны, с читательской стороны, заповедным миром книжности, не в строгом смысле, а в раскованном, зазывно-широком, и все же миром очарованно-самодостаточным. Для баек потребна уютная атмосфера. Георгий Давыдов, в образе жизне- и книголюба старой школы, воскрешает для нас уют того пространства (букинистической лавки? библиотечного стола под лампой с зеленым колпаком?), где литература неотделима от книги и автора-сочинителя. И чем более мы проникаемся тревогой, которую внушает статья Бориса Орехова и Павла Успенского (см. ниже), тем нас чаще влечет упомянутое пространство, вписанное в четыре скрытые книжными шкафами стены или четыре грани столешницы, но – чудо – не ограниченное ими.
 Владимир Варава
Владимир Варава
Под рубрикой «Опыты» опубликованы два эссе из готовящейся к выходу книги Владимира Варавы «Седьмой день Сизифа», которые, безусловно рекомендуя читателю «Нового мира» уже самим фактом упоминания, я хотела бы осветить полемически – коснуться того, в чем я с автором не согласна.
В эссе «Похищенная смерть» постулируется завороженность современной культуры, популярной прежде всего, масками чужой смерти при вытеснении, отвержении смерти собственной как предмета рефлексии. Против этого постулата не возразишь нечего, возразить хотелось бы вот на какое утверждение: дескать, это христианство «спрятало» смерть за бессмертием, подменило дискурс первой дискурсом второго; в трактовке Владимира Варавы это и означает для христиан победу над смертью. Жизнь (вечная) как бы выталкивает самый момент смерти из поля зрения, последний сводится к переходу из жизни в Жизнь и тем самым принижается. Упрощенная, как мне кажется, трактовка, а стало быть, в данном случае полностью превратная. Не имея богословского образования, все же рискну предположить, что поскольку победа над смертью не равняется бесконечности этой, земной жизни каждого конкретного человека, постольку и смерть для христианина – не только лишь переход в вечность, таможенная зона, но начало нового и конец прежнего. Смерть как завершение земного пути никто не отменял. Процитирую культуролога Александра Черноглазова, не однажды писавшего о сюжетах христианского мученичества в литературе и изобразительном искусстве: «Наша жизнь, как правильно понял Макбет, действительно ничего не значит, signifies nothing, и только смерть становится тем означающим, signifier, той заграждающей ее чертой, что, кладя на нее знамение креста, дает ей наконец смысл» (Полный текст здесь: эссе «Theatrum mundi»). В христианстве смерть не уходит с горизонта смыслов, она не лишена права голоса, не обесценена – достаточно вспомнить монашескую практику, что православную, что католическую. Умерший для мира мысленно пребывает в виду и этой состоявшейся, метафорической смерти, и смерти будущей, физической. Как в «Песни о солнце» св. Франциска Ассизского: «Хвала тебе, Господи мой, за сестру нашу Смерть, / Ее же никто из живущих не минует; / Но горе почиющим во грехе смертном!» (перевод С. Аверинцева) Попрание смерти вряд ли стоит относить исключительно насчет «бессмертия души». Вечная жизнь – не столько личное бессмертие, сколько жизнь в Боге. Потому и смерть, которая попрана, – скорее невозможность богообщения.
Отмечая стремление нашего ума встроить смерть в какой-нибудь контекст, только не оставаться с нею один на один, Варава объясняет его инстинктивным страхом и ничем более, но я и тут позволю себе предложить другую версию. Мы можем мыслить смерть лишь в неотрывности от жизни, потому что эта неотрывность объективна. После Искупления смерть больше не небытие. Она именно занимает свое место в контексте, то есть внутри бытия. Разногласие автора и одного из читателей данного эссе коренится, по существу, в выборе между двумя несовместимыми фокусами восприятия: либо жизнь спасает от смерти, либо смерть – от жизни.
Эссе «Книжный Бог» посвящено противопоставлению веры, как чего-то мятежно-подвижного, самое себя постоянно оспаривающего, и религии, как чего-то застывшего, систематизированного и вмененного в некритичное принятие. Справедливости ради начну с того, что данное противопоставление, в пользу веры, естественно, также как и тезис «религия не может исчерпать духовной жизни человека», отнюдь не революционны для христианской мысли. То и другое можно встретить у современных православных публицистов, священников по преимуществу, – тех, которых недоброжелатели называют «либеральными», и все же вполне ортодоксальных. И вновь в трактовке Владимира Варавы христианство подменило – на сей раз дело знанием, «буквой». Опять же рискну: Евангелие, разумеется, включает и этический кодекс, руководство к делу, но в первую очередь оно – Благая весть, то есть знание о том, что Христос умер за нас и воскрес. Но благовестить – это ведь нечто делать, правда? Одним словом, можно и нужно противопоставлять веру религии, но противопоставлять дело знанию, говоря о вере, возможно лишь, скажем так, понизив уровень разговора.
Владимир Варава отстаивает необходимость сомнения, причем такого, которое в принципе не может ни на чем утвердиться, сомнения неразрешимого. Но если допустить, что человек сотворен по образу и подобию Логоса, то надо допустить и что он ищет в любом хаосе смысл и порядок, больше того – смысла и порядка, а следовательно, неизбежно будет переходить от сомнения к утверждению, и вряд ли следует усматривать за этим как изъян человеческой натуры, так и признак ограниченности отдельного индивида.
 Нейронная сеть
Нейронная сеть
Любопытно, что именно выстраиванию системы из хаоса посвящена статья Бориса Орехова и Павла Успенского «Гальванизация автора, или Эксперимент с нейронной поэзией». «Изюминка» ее в том, что по тому, как статья начинается, нельзя и заподозрить, к чему авторы выведут. Вначале кажется, что перед нами довольно сухое, чисто информативное сообщение об «успехах» компьютерных программ в версификации, между тем как собственно нейронная поэзия и вообще компьютеры – лишь завязка, верхний слой разговора. По-настоящему же статья затрагивает две, причем неродственные, темы. Во-первых, более узкую, понимания поэзии читателем (особенно интересно после статьи Александра Мурашова в «Новом мире» № 5). Во-вторых, авторы задаются вопросом о том, что же такое человеческое измерение культуры, кто за него «отвечает», кто его гарант – автор или воспринимающая сторона: читатель, зритель, слушатель?
Львиную и наиболее выигрышную в плане увлекательности долю статьи занимают результаты эксперимента. Один из соавторов предъявил другому два стихотворения и предложил определить, какое сочинено человеком, а какое – нейронной сетью. По закону детективной интриги подопытный должен был «человеческое» стихотворение отдать компьютеру и наоборот, но это было бы лобовым ходом, поэтому эксперт не ошибся. И тем не менее проделанный и пошагово явленный нам литературоведческий анализ показывает, насколько ненадежны приметы человеческого, творческого, как убедительно, хочется сказать – тонко имитирует их машина, заставляя в произвольном наборе синтагм видеть осмысленное высказывание. Так кто наделяет стихотворение смыслом – автор или читатель? Кто его творит? Закольцовывая обзор возвращением к «Лоции в море чернил» Георгия Давыдова – мир литературы, он писательский или читательский?..
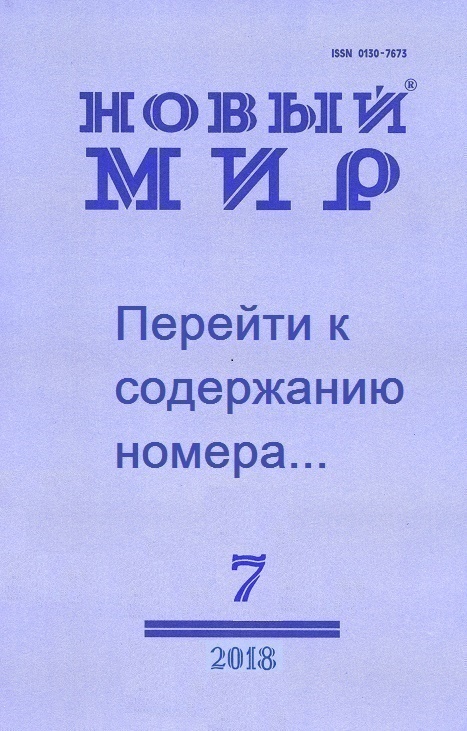






 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
