Выбор редакции
Проекты
Сретенье с Пушкиным. Отрывок из книги "Тайнопись"
Следы Пушкина рассыпаны как в зримой, так и в скрытой части поэмы Беллы Ахмадулиной "Род занятий", где разыгрывается сюжет смерти поэта на языке символов и знамений. Первым знамением приближающегося несчастья становятся строки: «Десятое. Темно. / Тень птичьих крыл метнулась из оврага». Ему вторит следующее знамение: «Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка». Существенность этого знамения раскрывается в связи с происхождением цветка.
Ванька-мокрый – бальзаминовое растение, имеющее много разных названий в различных культурах, – перекочевал в Россию из Африки. Иногда он в шутку зовётся африканским жителем. В пушкинском контексте африканское происхождение цветка в сочетании с его русским именем предстаёт цветочной моделью родословной Пушкина, зачастую фигурирующего в произведениях Ахмадулиной как «африканец». Ахмадулина любовно называет Пушкина то «вседобрым африканцем небывалым» («Клянусь», 1968), то «русым» африканцем, подчёркивая его двойственное происхождение («Зимняя замкнутость», 1965). Об «оборотнической» природе Ваньки-мокрого Ахмадулина с нежностью пишет в стихотворении «Печали и шуточки: комната» (1982): «где мой царевич, оборотень мой, / цвел Ванька-мокрый, мокрый и воспетый...». Оборотничество предполагает человеческую ипостась наряду с животной. У Ахмадулиной это человеческая ипостась наряду с цветочной. В том же стихотворении она подтверждает наличие человеческого облика у Ваньки-мокрого, давая понять, что он «не из растений»:
Ах, Ванька мой, ты – все мои сады.Пусть мне простит твой добродушный гений,что есть другой друг сердца и судьбы:совсем другой, совсем не из растений.
Нерастительный характер Ваньки-мокрого подчёркнут в «Роде занятий» его пространственной сближенностью с образами чернил, лампы и свечи:
Я оглянулась, падая к Оке.Вон там мой Ванька, там мои чернила.Связь меж луной и лампою в окнетак коротка была, так очевидна.
В «Свете и тумане» она утверждает, что Ванька-мокрый оживает на сочетании «рубина и малины». Символика этих цветов восходит к сакраментальной сфере и к Христу. Именно на этом сочетании и оживает её Пушкин. В «Роде занятий» «Ванька-мокрый не возжег цветка», поскольку в пушкинском окне дома наступление зари десятого февраля означает весть о скорой кончине поэта. Этим обусловлена тревога лирической героини, мечущейся между луной и зарёй как вестниками ухода и одновременно восхода друга «сердца и судьбы» в иных сферах.
В контексте парадигмы «умирающий Пушкин» раскрываются новые смыслы уже знакомых объектов и явлений. Прежде всего, это касается пространственного оксюморонного образа «черным-бела Ока». В пушкинском окне дома, этот образ трансформируется в место дуэли Пушкина – Чёрную речку, покрытую февральским снегом. Сразу же после зловещего явления Оки луна исчезает, словно подтверждая эту скрытую гибельную связь. «Обратное окно», к которому устремляется лирическая героиня в надежде увидеть луну, символизирует запредельность, в которую нельзя проникнуть «очами телесными».
Я ринулась к обратному окну:– А где луна? – ослепнув от мороза,оно или не видело луну,или гнушалось глупостью вопроса.
Ослепляющий мороз проступает как занебесный образ «солнцемороза», где свечение исходит не от внешнего источника, а из внутренних свойств мороза – ипостаси Светоча. Интересна также двойственная природа догадок героини по поводу того, куда делась луна. Одно из предположений – луна не видна из этого окна («оно или не видело луну»); другое – луна за пределами зримого («или гнушалось глупостью вопроса»). Предположения отражают два типа ментальности – ментальность материального мира с ограниченным зрением, и ментальность духовного мира, направленного на созерцание несказанности. Фраза «ослепнув от мороза» сближена с фразеологическим оборотом «ослепнуть от слёз», что подчёркивает скорбность момента и безвозвратность ухода луны. Следующий вопрос также остаётся без ответа, но он относится уже не к пропавшей луне, а к «самодержцу» «раболепных букв и запятых», то есть к умирающему поэту («Где раболепных букв и запятых / сокрылся самодержец и проситель?»).
Далее знамения смерти сменяются знамениями воскресения. Прежде всего, это касается символики трёх огней, сопровождающих луну в качестве её ангелов-хранителей («Луну сопровождали три огня»). Как все прочие детали, и эта имеет несколько значений в разных окнах дома. В пушкинском окне значение восходит к трём фигурам, несущим вахту у постели умирающего Пушкина: домашний врач Иван Спасский, друг и секундант Пушкина Константин Данзас и Владимир Даль. В сакраментальном пространстве библейского окна «сопровождающие» Пушкина в инобытие «охранители» отображаются в небесах священной тройственностью свечений.
Приход зари ознаменован надеждой, которую лирическая героиня читает в едва различимых оттенках «не-цвета».
А там внизу, над розовым едва –(еще слабей... так будущего летанам роза нерасцветшая виднаотсутствием и обещаньем цвета...
Картина знамений дана в образах, перекликающихся с христианской символикой розы и обещания лета. Певец неувядающей розы ещё не выкристаллизовался окончательно на умопостигаемом небосклоне, но уже ясно, что он грядёт на смену умирающему певцу луны.
………………………………..в какое слово мысль ни окунем,заря предстанет ясною строкою,в конце которой гаснет огонекв селе, я улыбнулась, за рекою...) –
Улыбка лирической героини – почти материнская – обращена к юношескому стихотворению Пушкина «Вишня» (1815), цитата из которого входит в строфу о заре:
Румяной зареюПокрылся восток,В селе за рекоюПотух огонек.(курсив мой – В.З.)
Смысл этой цитаты не только в том, чтобы вновь намекнуть читателю, о ком идёт речь, но и в том, чтобы показать, что Пушкин, навечно вписанный в литературные небеса, являет себя в закате и рассвете небес природных. Истаивающая жизнь певца луны на заре десятого февраля передана фразой «В луне осталось мало зримых свойств». Метафора кончины недвусмысленно появляется «в тот день через одиннадцать часов», т.е., когда певца луны уже нет в этом мире. В этот вечер бывшая с утра на небосклоне луна описана как «робкий круг, усопший средь лесов» (курсив мой – В.З.).
С точностью до часа фиксирует лирическая героиня перемены, связанные с луной 10 февраля. Это на удивление педантичное повествование обыгрывает стиль письма Жуковского с подробными ссылками на время: «Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился в 7-м, то есть через два часа» [Жуковский 1960, 613]. У Ахмадулиной читаем о луне:
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.Уж видно, что заря неотвратима.
Совпадает не только время, но и ощущение неотвратимости, переданное так же и в записи Жуковского, который сразу же за этим добавляет: «Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть» [Жуковский 1960, 613]. «Не пережить дня» - это заключение становится подтекстом заявления лирической героини о том, что «заря неотвратима».
Несомненно, записки Жуковского были тем впечатлением, от которого отталкивалась Ахмадулина, воспроизводящая трагедию луны в этот роковой день. «В девять часов без четверти она / за паршинское канула заснежье. Ей нет возврата». Строка «Ей нет возврата» звучит отголоском онегинского «Мечтам и годам нет возврата», что усиливает ассоциацию с умирающим поэтом. Здесь уже время фиксируется не приблизительно, а с точностью до минут. Сравним это с тем, что пишет Жуковский о приближающейся кончине Пушкина: «Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа» [Жуковский 1960, 614]. В поэме для луны сохраняются те самые «роковые» «три четверти часа», которые Пушкин прожил, скончавшись в 14:45.
Как было упомянуто, вечером десятого февраля луна появляется на небосклоне «через одиннадцать часов», то есть в 19:45. Поэт уже отошёл в мир иной, и присутствующие в описании «три четверти часа» становятся символикой остановленного времени на пушкинских земных часах. Тем не менее, история с луной продолжается. Осиротевшая луна возникает на небосклоне в новом качестве беспризорницы:
<…> Предаласьне пушкинским, а беспризорным бесам.
Имя Пушкина в первый и последний раз появляется именно в этой части поэмы, усиливая мотив сиротства литературных небес. Горе луны так велико, что она готова обрушиться «пеклом» на мир, отобравший у неё певца.
Однако если минутное время сохранено в поэме за Пушкиным, то час («девять часов без четверти»), когда луна безвозвратно «за паршинское канула заснежье», перекликается в контексте Сретенья с часом смерти Христа.
а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27: 46).
Так накладывается пушкинское время на библейское, и в этом усматривается намёк на мученическую смерть поэта – светоча литературных небес. В поэме исчезновение луны продлевает цепь ассоциаций к лунному затмению во время казни Христа, воспоминание о которой является частью Сретения.
Распятие сопровождается землетрясением. Образ выпуклого пекла («В тот день через одиннадцать часов / явилась пеклом выпуклым средь сосен») – то есть вулканически вздымающегося, рвущегося наружу ада, сближен с картиной взбунтовавшегося мира усопших:
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. (Мф. 27: 51-54)
Упоминание нетей, в которых укрывалась луна «к полуночи» («Укрылась в мутных нетях»), звучит отголоском «пелен», которыми к вечеру обвили тело Христа.
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею (Мф. 27:57-59)
Тринадцатое и четырнадцатое число проходят «безлунно» для лирической героини. Это соответствует трауру в пушкинском и библейском окнах дома. Безрадостно проходит суббота и первая половина воскресенья после казни Христа вплоть до известия о Воскресении. Воскресению в поэме соответствует возвращение луны в ином облике. Она водружается на небосклоне в понедельник («На понедельник Сретенье пришлось»), откликаясь на чей-то зов.
Зов слышался... нет, просьба... нет, мольба.
Впечатление, что зовущий находится в зоне, недосягаемой для зрения. В библейском контексте мольба перекликается с мольбой Марии к мнимому садовнику вернуть ей тело Христа.
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. (Ин. 20:15)
Мария поначалу не узнаёт Сына. Так же и лирическая героиня поначалу не узнаёт своей луны, вопрошая: «Что с нею сталось?». И ставит под сомнение реальность встречи:
Иль то усталость моего же лба,восплывши в небо, надо мной смеялась?
Мистическая потеря способности узнать то, что ранее было знакомо, смыкается в пушкинском поле с впечатлениями Жуковского, сидящего у постели только что скончавшегося Пушкина:
Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.
(…) Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина [Жуковский 1960, 615].
Это детальное описание краткого мига созерцания запредельности, проступившей в новом облике умершего поэта, проливает свет на причину неузнанности Христа, явившегося матери и ученикам в новом облике. Вскоре испуг их сменяется «великою радостию» (Лк. 24: 52), и то же происходит и с лирической героиней. Её лёгкое и радостное восхождение на холм – свидетельство духовного восхождения, сменившего «восхода недостаток», с которого начиналась поэма:
Но весело взбиралась я на холм.Испуг сорочий ударял в трещотки.И пышущих здоровьем и грехом,румяных лыжниц проносились щеки.
Сретенье завершает поиск и кладёт конец мытарствам лирической героини-поэта, которая движется к своему детищу-стихотворению, как некогда Симеон шёл к своей песне. Строки «Склонись ко мне, о Ты, кто сорока / дней от роду мог упокоить старца» воскрешают в памяти историю Сретенья, когда Симеон Богоприимец, живший около трёхсот лет, наконец, выполнил свою миссию «узревания» Младенца, бывшего сорока дней от роду, в Иерусалимском Храме. Тогда он произнёс слова, известные впоследствии как «Песнь Симеона Богоприимца».
Пять дней, отделяющие Сретенье от даты смерти Пушкина, напоминают о пятидневном пребывании тела Пушкина в мире. В поэме это время разворачивается как движение певца луны к Спасителю. И каждый момент этого движения зорко фиксируется лирической героиней, слагающей свою песнь.
Вот как пишет о последнем дне прощания с Пушкиным Жуковский в письме к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г.:
3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани, сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих [Жуковский 1960, 616].
Словно заглядывая «за угол дома» и продолжая следить за движением уже неземного Пушкина, Ахмадулина «разгадывает» направление саней: освещаемый лунным светом поэт движется к своему Сретенью, как Адам движется к Сыну Божьему. Эту встречу Ахмадулина кропотливо выстраивает в поэме, создавая все зримые и незримые условия к тому, чтобы сретенье состоялось. Искусно развивая и сплетая сюжетные линии, она сводит их в полифоническое единство Встречи.
«Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берет его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости», - обобщает свой опыт общения с Пушкиным Ахмадулина в эссе «Вечное присутствие». Остаётся только добавить, что количество строф в поэме равняется тридцати семи – по годам жизни Пушкина.
_______
Предлагаемый отрывок из книги "Тайнопись" приводится с сокращениями.
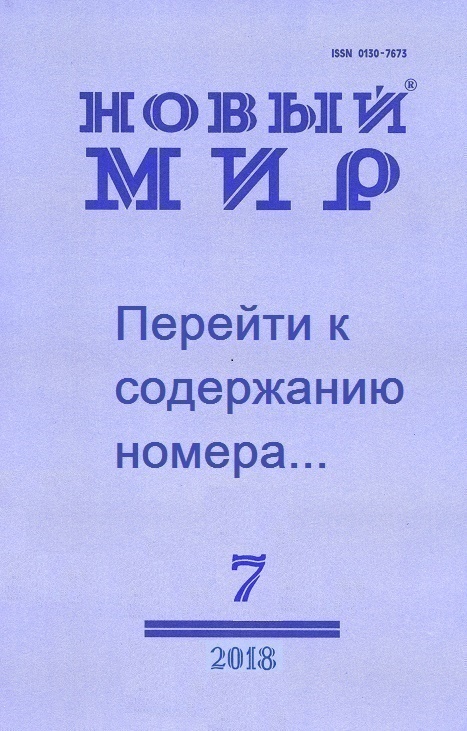







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
